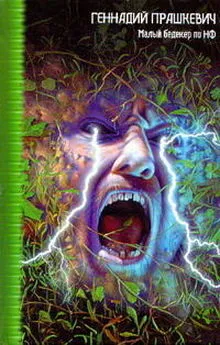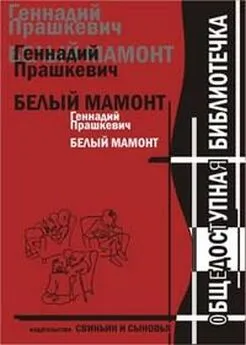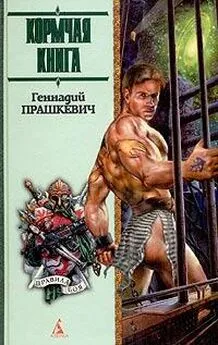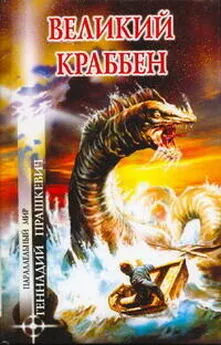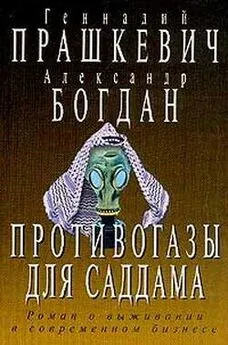Геннадий Прашкевич - Большие снега
- Название:Большие снега
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Большие снега краткое содержание
Избранные стихи. В этой книге легко обнаружить и вполне классические, даже постакмеистические стихи, и формальные, в лучшем смысле слова, эксперименты, идущие от русских футуристов, и утонченный верлибр, и восточную минималистичность, и медитативные погружения в историческое и мифологическое пространства, характерные для поэзии балканских стран.
Большие снега - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О, ты – руки, которые жар мой снимают!
Ты – глаза, сквозь которые мир мой колючий, дождливый,
походя, как в волшебном стекле, превращается в добрый и лунный,
небеса принимают небесную синь, море – зелень морскую,
кровь становится цветом в вино, а ружье,
то, в которое верю,
превращается просто в игрушку,
игрушки всегда безопасны.
О, ты – губы! Они мне напомнят и ночью о Солнце,
о чем-то тропическом, доледниковом,
я не знаю, о чем, но быть может, о рае,
о потерянном,
давнем…
Все, чего я касался,
все, о чем тосковал,
все, чего не хватало,
это – ты!
Даже мхи, на которые падал без сил,
ощущая их дикую эластичность,
и тугие стволы
кленов,
елей,
берез —
это ты!
Никогда я с тобой не прощался, не терял тебя даже на миг,
потому что леса, берега и вершины
были частью тебя, были просто тобой, без обмана,
хотя лес обмануть может очень легко,
даже море обманет,
как бывало, когда
принимал за русалку
обычную нерпу.
Ты так произносишь мое имя,
что мне становится тепло.
Ты так произносишь мое имя,
что город, окруживший нас каменными кубами,
небо, покрывшее нас темными облаками,
небо, в котором живут птицы и самолеты,
становятся вдруг моими.
Но твой – этот город.
Идем по скрипящим мосткам,
считаем деревья, в киосках листаем газеты.
Вот парк, вот река, вот скала – голубой истукан,
вот ветви черемух, что шквалом вчерашним задеты.
Невежливый город.
Я в спор его снова втяну,
нарушу покой его старых запущенных улиц,
чтоб слуги его нам не ставили завтра в вину
не ими отпущенных,
и не для них,
поцелуев.
Невежливый город.
Он смотрит, расширив глаза,
закутанный в дым, ухмыляется, злостный курильщик.
И немо, и страшно глядятся глухие леса
в ужасный разлив
этой заново
начатой
жизни.
Христо Ганову
Запомнят меня веселым,
любившим хорошие вещи,
искавшим, несуетливым, знающим, что к чему.
Никто не узнает ночи,
в которую, как в колодец,
я падал, зная – любимых
и близких мне больше нет.
Желания моих предков – поляков, русских, монголов,
травили меня, как травят вино и табак.
Никто не узнает ночи,
единственной той, в которой
слезы мои блестели ярче больших звезд.
Запомнят меня веселым.
Ведь если ты – небо, тучи
тебя все равно не закроют.
Я рад, что я был таким:
счастья узнал достаточно,
увидел почти достаточно,
сделал почти достаточно,
достаточно был любим.
Лишь об одном жалею,
что все же кому-то был я
не сопкой в глухих лианах,
не солнечною тропой,
не бухтой, в которой глухо,
не лесом, в котором тихо,
не небом, в котором пусто, —
а падающей
звездой.
…ты, наверное, была
в белых глыбах риолита,
привезенного вчера.
…или в лиственничных перьях,
или в школьной городьбе,
в облаках, в дожде, в капели,
в Солнце, в птицах и в судьбе.
…фиолетовое небо
в раме ясного окна,
ты была тогда и в этом.
И стояла тишина.
Да такая,
что на небе,
на земле и на воде
тосковали не о хлебе,
тосковали о тебе.
Тосковали все —
машины,
люди,
вещи,
чудеса,
отдаленные вершины
и ближайшие леса.
Зависть правила мирами,
потому что, сбросив страх,
ты с утра уже сияла
и цвела в моих руках.
Не хватит ста сердец, не хватит ста веков.
Огню обречены, мы выше всех костров.
Мы знаем, как звезда становится звездой,
мы знаем, как глаза вдруг полнятся слезой.
И, руки протянув, кляни нас, не кляни,
мы держим не себя, а небеса любви.
А мир глядит на нас, и если мы умрем,
сто тысяч жадных глаз изобретут любовь,
сто тысяч жадных рук ее изобретут
со всем набором мук, и в мир ее внесут.
И что там сто сердец, и что там сто веков!
Кто обречен огню, тот выше всех костров.
Он знает, как звезда становится звездой,
он знает, как глаза вдруг полнятся слезой.
И сколько б ни гореть, он будет вновь и вновь
изобретать любовь, изобретать любовь.
А мыс Марии сказочно красив!
Я понимаю ярое упорство
отъевшегося нерпами медведя,
который, как последний камикадзе,
приходит каждым вечером с Бакланьей
и смотрит на мигалку маяка.
Он зачарован вспышками немыми,
он медлит, нервно поводя ноздрями,
и мнет когтями красную бруснику,
пытается понять,
откуда свет?
А мыс Марии, рыжий до бесстыдства,
сгорает в рыжих лиственничных перьях,
в лианах, в шикше, в пламенной бруснике,
как будто говоря: «Спеши! Иначе
сгорю дотла, и кто тогда узнает,
что эта осень, может быть, явилась,
как болдинская Пушкину, —
тебе».
Спасибо, мыс Марии, за участье.
Я улетаю.
Тело вертолета,
как желтый лист,
плывет над маяком.
Мне не пристало хмуриться и плакать.
Что слезы? Ведь нельзя убить пустыню.
Пустыню можно только заселить.
Я возвращусь. К чему здесь обещанья?
Узнавшие любовь
стремятся жить.
Пылающие листья
(с корейского)
Прежде всего вспоминаю лоб:
выпуклый, желтый, блестя пластмассой,
он возвышался, как злой сугроб,
над потемневшей от времени массой
щек, подбородка. Сплетенье жил,
съеденных нервами в сумрачных драках.
Он по-корейски кричал и выл,
он по-корейски молил и плакал.
«Переводи, – умолял, – вводи
слово за словом в тот мир, что спаян
словом и делом. Переводи!
Делай, что хочешь. Ведь ты – хозяин!»
Падая лбом на край стола,
будто предчувствуя холод разлуки,
он на мгновение умолкал,
веки сжимал, опускал руки.
«Переводи! – умолял. – Вводи
в лес, где ручей никогда не смолкает,
в ночь, где смятением дышат дожди,
в дождь, где снега, как смятение, тают.
Переводи! Над сиянием слов
дух затаив, будто дышишь на свечи!»
И он умолял говорить про любовь,
и холод сводил его круглые плечи.
И через безденежье, через борта
дней, что иллюзий давно не питают:
«Розе, – шептал он – благоухать
злые шипы никогда не мешают».
Интервал:
Закладка: