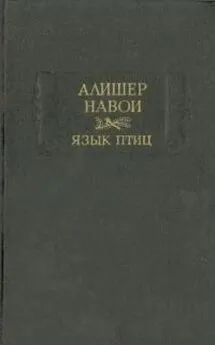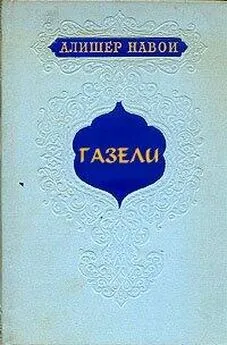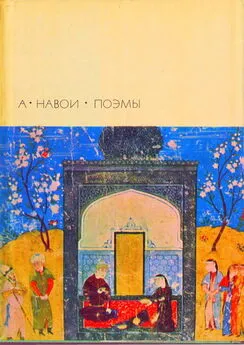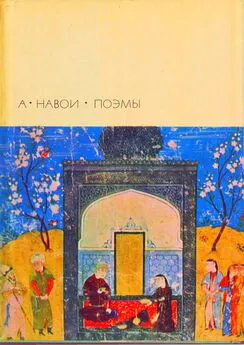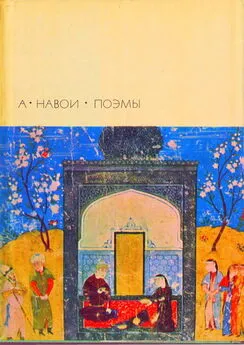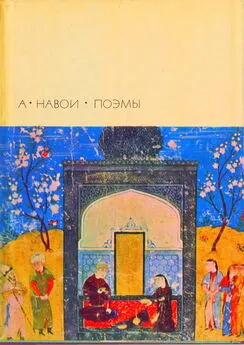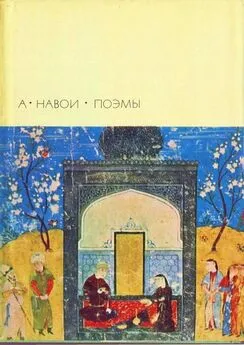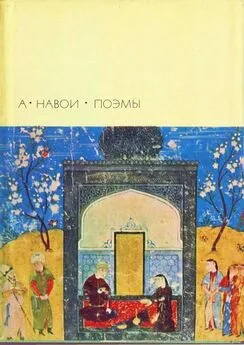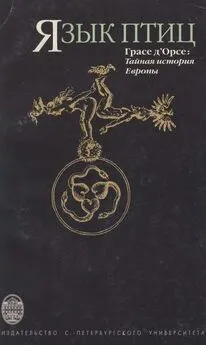Алишер Навои - Язык птиц
- Название:Язык птиц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1993
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алишер Навои - Язык птиц краткое содержание
Язык птиц - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Объективно тем самым предсмертное произведение Навои является уникальным памятником мировой литературы, так как оно представляет собой художественную исповедь крупного мастера слова, сознательно предпринятую им как завершение творческого пути и отразившую осознание поэтом значительности своих свершений.
В свете всего сказанного о сложной гармонии различных сюжетных линий — явных (странствие птиц) и тайных (собственное авторское «странствие») — и о «подгонке» сюжетной и дидактической линий повествования композиционная структура поэмы в чисто художественном плане, в плане поэтики выглядит как художественное построение исключительной цельности и гармоничности: это — художественно обобщенный итог долгих лет творчества.
Содержание и структура поэмы — лучшее доказательство того, что Навои не был суфием-ортодоксом. Как мы видели, Навои необычайно широко, можно сказать в общечеловеческом смысле, понимает идею познания истины в себе. Об этом же свидетельствует и та система иносказаний, которая открывается во вставном рассказе о шейхе Санане.
При этом важно отметить, что это понимание лишено у Навои какого-либо ханжеского аскетизма, регламентировавшегося буквой суфийского учения. Навои, конечно же, мутасаввиф, т. е. «попутчик» суфийской доктрины. В этом плане показательно, что собственно суфийская вводная часть поэмы Аттара менее всего отразилась в сочинении Навои. Соглашаясь с таким представлением об отношении Навои к суфизму, следует совершенно отчетливо понимать, что суфийская философия была важнейшим слагаемым образованности Навои и что она не могла не быть наиболее существенной частью его «идеологического» образования.31
7
Б. А. Ларин совершенно справедливо отмечал «неверно направленный интерес» читателя и исследователя при соприкосновении со своеобразным миром древних литературных памятников. Этим «неверно направленным интересом», по мысли Б. А. Ларина, затрудняется объективная оценка свежести и действительности, а также самой эстетической и художественной эффективности литературного факта давних лет.
Правильное понимание содержательных и выразительных свойств бейта требует уяснения всех его эстетико-художественных функций, при этом непременно в связи с общим контекстом всей поэзии, имеющей своей основой «бейтовую» структуру.
Бейт в поэтическом произведении является основной строфической и образной единицей. Бейт состоит из двух полустиший, связанных определенной рифмой, которая обусловлена поэтическим жанром. Эпический жанр маснави, в котором создана поэма Навои, имеет парную рифмовку — аа, бб, вв...
Бейт представляет также и единицу смысла, оба его полустишия объединены одной мыслью. В маснави встречаются случаи, когда мысль развивается на протяжении нескольких бейтов. Парная рифмовка в маснави способствует тому, что именно в этом жанре наиболее четко проявляется стремление бейта к афористичности.
В маснави бейты при всех своих свойствах художественной обособленности, завершенности и афористичности должны быть связаны известной последовательностью в развитии сюжета.33 Однако такое развитие характеризуется неторопливостью, эпической сдержанностью. Движение от бейта к бейту осуществляется в рамках основного смысла посредством минимальных «накоплений» нового в развитии заданного смыслового направления. При этом у читателя создается впечатление, что бейты в пределах данной замкнутой их последовательности как бы сделаны из одного материала. Эта особенность текста в подобных случаях являет собою отражение одного из свойств средневековой эстетики в целом. Свойство это — стремление автора приблизиться к идеальному отражению задуманного посредством различных «заходов» к одной и той же микротеме, убеждение в том, что большое количество попыток приближения к сокровенному смыслу приведет к желаемому результату.34 В этом плане характерны бейты 1789—1801:
Кто и ночью и днем у злонравия в путах,
Тот обрек себя жить в испытаниях лютых.
Кто велениям нрава послушен, как раб,
Будет тот и в великом ничтожен и слаб.
Кто без прихоти нрава не молвит и слова,
Все свершит он, что нрав пожелает дурного.
Тот, чьей воле запрет своенравью неведом,
Будет всюду за прихотью шествовать следом.
Ты, подобно ослу, взнуздан силою уз —
Свой же собственный нрав волочишь словно груз!
И куда устремит он свой путь, ты — туда же,
Где он место найдет отдохнуть, ты — туда же.
Еще в детстве своим же осиленный нравом,
Был ты предан нелепым и глупым забавам.
Ты и взрослым от этих забав не отвык,
О себе не задумался ты ни на миг.
А состарился — вызрели нрав твой и норов,
Весь опутан ты злобою смут и раздоров.
Жизнь твоя в заблуждениях зла пролетела,
Смерть пришла — и раскаяньям нет и предела.
Жизнь прошла, а велений ты божьих не знал,
Дел иных, кроме злых и негожих, не знал.
В целом мире нелепых, как ты, и не сыщешь,
И проживших года столь пустые не сыщешь.
Был ты жив — таковы твои были деянья,
А умрешь — берегись: что придет в воздаянье?
Такое нанизывание сходных смыслов давало возможность сохранять в бейте то качество, которое являлось мерилом его эстетической ценности, а именно — афористичность.
Это свойство бейта в русле упомянутых эстетических норм и требований удавалось культивировать благодаря ограниченности сюжетного движения. Ср., например, бейты 1721 —1729, где все бейты афористичны, хотя смысловое развитие достаточно очевидно:
Мир — не вечный приют в безмятежной долине, —
Всем единый исход предуказан в кончине.
Ждать достойной кончины, неся этот грех? —
Ты негожее место избрал для потех!
Знай: невеждой невежд, простаком прослывешь ты,
У разумных мужей дураком прослывешь ты!
Если духу от скверны избавиться надо,
Это простого ты, неразумное чадо!
В покаянье — тебе избавленье от бед,
Среди мрака терзаний — немеркнущий свет.
Грязь греха никому ведь чужда не бывает,
Чистоты без греха никогда не бывает!
И сынам человеческим, созданным богом,
Не дано вековать в целомудрии строгом.
О глупец! Если ты не содеял бы зла,
Для кого бы спасением милость была?
Даже тот, чье чело от грехов пожелтело,
Покаянием сможет очиститься смело.
И все же для поэмы «Язык птиц», как и для других произведений подобного жанра, наиболее характерным является «такое членение стихового потока, при котором последовательность определенного количества связанных друг с другом бейтов как бы прерывается бейтом-афоризмом, заключающим данное смысловое единство».35 Таковы почти все ответы Удода птицам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: