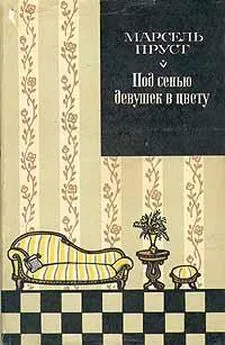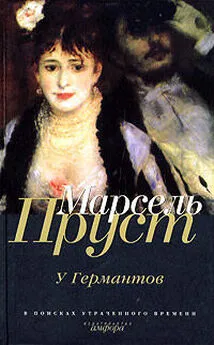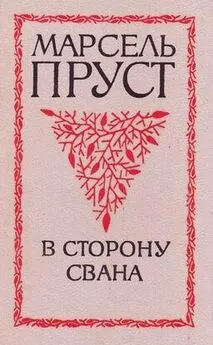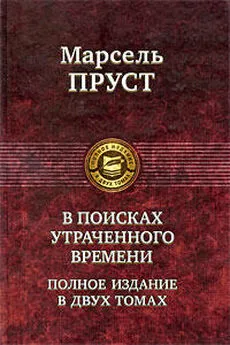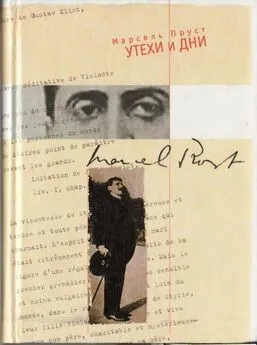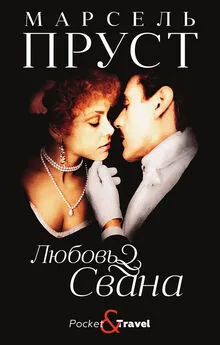Марсель Пруст - Сторона Германтов
- Название:Сторона Германтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18722-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Сторона Германтов краткое содержание
Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Сторона Германтов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между тем Франсуаза, которая была тут же, отнюдь не думала отводить глаза от того, что угадывалось по искаженным чертам бабушкиного лица и на что не смела глядеть мама; остолбенев, она бесцеремонно глазела на маму и бабушку, и взгляд ее не предвещал ничего хорошего. Она, конечно, искренне любила бабушку (ее даже разочаровала и чуть не возмутила сдержанность моей мамы, которой, по ее понятиям, следовало с рыданиями заключить бабушку в объятия), но у нее была склонность всегда предполагать худшее; с малых лет она сохранила две черты, которые, казалось бы, должны исключать одна другую, а на самом деле, сочетаясь в одном человеке, друг друга усиливают: это, во-первых, присущая простым людям невоспитанность, в силу которой они не пытаются скрыть впечатление, а то и горестный ужас при виде чужой немощи, хотя деликатнее было бы притвориться, будто ничего не замечаешь; а во-вторых, бесчувственность и черствость крестьянки, которая в детстве обрывает крылышки у стрекоз, а когда вырастет, сворачивает шеи курам и лишена целомудрия, заставляющего нас скрывать интерес к виду страдающей плоти.
Когда благодаря умелым заботам Франсуазы бабушка уже лежала в постели, она заметила, что ей гораздо легче говорить: ущерб, нанесенный уремией, — небольшой разрыв или закупорка сосуда, — был, вероятно, совсем невелик. И ей захотелось не подвести маму, поддержать ее в самые тяжкие минуты, какие той пришлось пережить.
— Ну, дочь моя, — сказала она, взяв маму за руку и прижимая другую ее руку к губам, чтобы как-то оправдать легкое усилие, которого ей стоило выговорить некоторые слова, — так-то ты жалеешь свою маму! Можно подумать, ты полагаешь, что несварение желудка — это пустяки!
И тут впервые мамины глаза страстно вгляделись в бабушкины (именно в глаза, а не во все лицо), и она произнесла первое из долгой череды лживых обещаний, которые мы не в силах исполнить:
— Мама, клянусь, что ты скоро поправишься.
И, вложив в поцелуй самую свою горячую любовь и все свое страстное желание, чтобы мама выздоровела, вместив в него все усилие мысли, всю себя до самого краешка губ, она смиренно, благоговейно, с обожанием поцеловала бабушку в лоб.
Бабушка жаловалась, что одеяла все время собирались в ком в одном и том же месте и давили на левую ногу, и ей не удавалось их расправить. Она понапрасну обвиняла Франсуазу, что та перестилает постель как попало, и не понимала, что одеяло сбивается из-за нее самой. Конвульсивным движением она сдвигала влево пенную волну одеял из чистой шерсти, и они громоздились, как кучи песка на берегу залива, который, если не построить дамбу, под воздействием приливов очень быстро превращается в отмель.
Мы с мамой (вопреки неодобрению проницательной Франсуазы, видевшей нас насквозь и презиравшей ложь) даже не хотели говорить, что бабушка очень больна, как будто боялись порадовать врагов, которых, впрочем, у нее не было, как будто любовь требовала от нас веры в то, что дела не так уж плохи; точно так же я инстинктивно чувствовал в свое время, что Андре что-то уж слишком жалеет Альбертину, чтобы искренне ее любить. Нечто подобное наблюдается во время великих кризисов, и не только у отдельных людей, но и в массах. Во время войны тот, кто не любит своей страны, не порочит ее, а просто считает, что положение ее безнадежно, вслух выражает свою скорбь о ней и рисует ее будущее в мрачных красках.
Франсуаза бесконечно выручала нас: она умела обходиться без сна и брала на себя самую тяжелую работу. А если после того, как она несколько ночей провела на ногах и наконец уснула, нам приходилось опять ее будить спустя каких-нибудь четверть часа, она была радехонька, что может переделать самые тягостные дела так, будто ничего нет легче, и не только не морщилась и не брюзжала, а наоборот, на лице ее расцветала скромная, но горделивая улыбка. Только когда близилось время идти к мессе или завтракать, Франсуаза заблаговременно исчезала, чтобы не опоздать, и тут ее не остановила бы даже бабушкина агония. Причем она и мысли не допускала, чтобы ее подменил молодой лакей. Разумеется, у нее были очень возвышенные понятия о долге прислуги по отношению к нам: она бы не потерпела, чтобы нам пришлось «обходиться» без кого-нибудь из наших людей. Благодаря этому она оказалась такой благородной, такой властной, такой энергичной воспитательницей, что, какие бы испорченные слуги к нам ни нанимались, она быстро их переделывала, исправляла их понятия о жизни, приучала не трогать ни одного су из хозяйских денег и даже тем из них, кто раньше не отличался услужливостью, прививала привычку бросаться мне на помощь и выхватывать у меня из рук самый легкий пакет, чтобы я не утомился. Но, кроме того, Франсуаза усвоила в Комбре и привезла в Париж привычку не терпеть никакой помощи в работе. Любая поддержка представлялась ей публичным унижением, и бывало, что она неделями не отвечала кому-то из слуг на утреннее приветствие и даже не прощалась с ними, когда они уезжали в отпуск, причем они понятия не имели, за что это, а все дело было в том, что они взяли на себя малую часть ее дел, пока она хворала. И сейчас, когда бабушке было так плохо, Франсуазе казалось, что ухаживать за больной — исключительно ее дело. Исполнительница главной роли, она в эти дни гала-представлений никому бы не позволила похитить у себя эту роль. А молодого лакея она попросту отстранила, и он понятия не имел, как ему быть; мало того, что он, по примеру Виктора, таскал у меня бумагу из бюро, теперь он принялся еще и таскать томики стихов из моей библиотеки. Он читал их добрую половину дня, восхищаясь поэтами, которые их сочинили, а кроме того, в оставшееся время пересыпал цитатами свои письма к деревенским друзьям. Он, конечно, надеялся произвести на них впечатление. Но поскольку в голове у него царил кавардак, он воображал, что стихи из моей библиотеки известны кому угодно и ссылаются на них все кому не лень. Поэтому в посланиях к друзьям-крестьянам, в надежде их изумить, он перемежал стихотворения Ламартина своими собственными размышлениями с такой же легкостью, как если бы это были замечания вроде «поживем — увидим» или даже «здрасте».
Из-за болей бабушке разрешили принимать морфий. К сожалению, он не только успокаивал больную, но и повышал уровень альбумина. Удары, предназначавшиеся болезни, которая угнездилась в бабушке, все время били мимо цели: они попадали прямо в нее, в ее бедное тело, а она не жаловалась и только тихо стонала. И боль, которую мы ей причиняли, не искупалась пользой, которую мы не умели ей принести. Мы хотели истребить эту беспощадную боль, но нам удавалось лишь слегка ее задеть, отчего она только обострялась; мы, возможно, приближали час, когда она погубит свою жертву. В те дни, когда уровень альбумина повышался чрезмерно, Котар, поколебавшись, отменял морфий. В недолгие минуты размышлений, когда опасности того или иного лечения вели спор у него в голове, пока он не примет решения, на каком из них остановиться, в этом человеке, таком незначительном, таком заурядном, проявлялось величие полководца, гениального стратега, пускай в повседневной жизни ничем не примечательного, зато в роковой момент умеющего на миг задуматься, принять наиболее разумное с военной точки зрения решение и сказать: «Наступать в восточном направлении». С медицинской точки зрения, хотя едва ли можно было надеяться, что удастся остановить этот приступ уремии, изнурять почки не следовало. Но с другой стороны, когда бабушка не получала морфия, ей было нестерпимо больно; она все время повторяла одно и то же движение, которое ей трудно было выполнять без стона; в сущности, боль — это потребность организма осознать новое состояние, которое его беспокоит, и научиться его правильно ощущать. Это подтверждается тем, что разные люди по-разному переносят одни и те же неудобства. Бывает, что в комнате, где не продохнуть от дыма, спокойно занимаются своими делами два человека, но третий, более хрупкий, испытывает явное недомогание. Казалось бы, он должен постараться не замечать неприятного запаха, но нет, он все время тревожно принюхивается и его измученное обоняние то и дело пытается как-то свыкнуться с этим запахом и приспособиться к нему. Поэтому, наверно, мы не жалуемся на зубную боль, когда поглощены каким-нибудь занятием. Когда бабушка страдала от боли, ее высокий лоб принимал фиолетовый оттенок, и к нему прилипали белые прядки волос, пропитанные выступавшим потом, а когда она думала, что в комнате никого нет, вскрикивала: «Ох, не могу больше!», но, заметив маму, тут же делала над собой огромное усилие, чтобы согнать с лица следы боли, или, наоборот, повторяла свои жалобы, сопровождая их пояснениями, которые задним числом должны были придать другой смысл тому, что мама слышала:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: