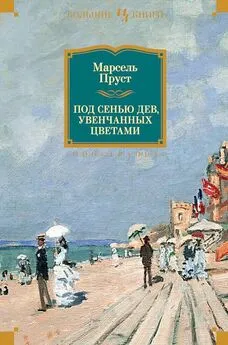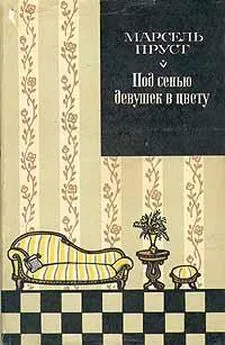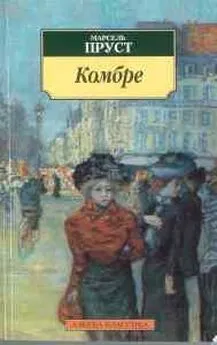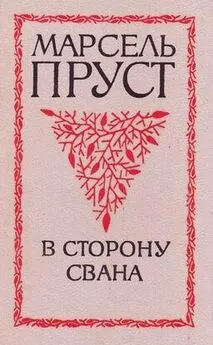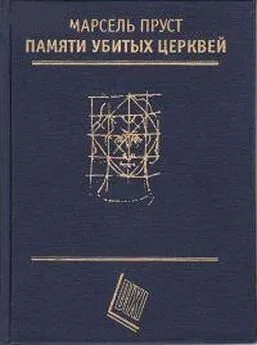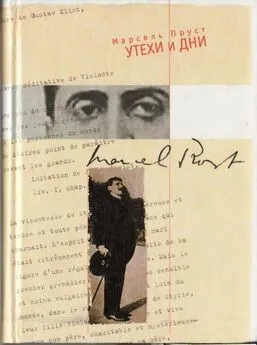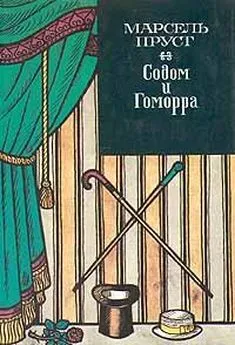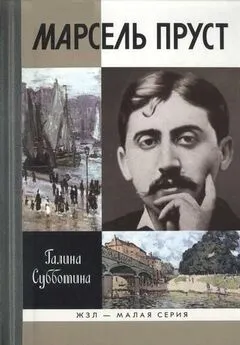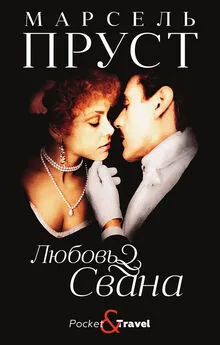Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами
- Название:Под сенью дев, увенчанных цветами
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18721-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами краткое содержание
Читателю предстоит оценить вторую книгу романа «Под сенью дев, увенчанных цветами» в новом, блистательном переводе Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Под сенью дев, увенчанных цветами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бывало иногда, что, сидя у окна в бальбекском отеле, утром, когда Франсуаза раздвигала шторы, скрывавшие свет, или вечером, пока я ждал, когда мы уедем с Сен-Лу, из-за причуд освещения я принимал более темную часть моря за далекий берег или с радостью глядел на невесомую синюю полосу, не зная, на море она или на небе. Очень скоро рассудок мой восстанавливал границы между стихиями, которые впечатление успело стереть. Вот так в Париже, у себя в комнате, мне случалось слышать доносившуюся с улицы перебранку, чуть не бунт, но потом этот шум удавалось связать с его причиной, например грохотом приближающейся телеги, и я тут же отсеивал из него пронзительные нестройные вопли, — их явственно слышали мои уши, но рассудок знал, что колеса телеги этих звуков не издают. Но творчество Эльстира было соткано из тех редких мгновений, когда природу, такую какая она есть, видишь поэтически. Сейчас вокруг него были собраны морские пейзажи, где чаще всего повторялась как раз та метафора, которая, сопоставляя землю и море, стирала между ними всякую границу. Именно это сопоставление, безмолвно и неустанно повторявшееся опять и опять на одном и том же холсте, сообщало ему то многоликое, мощное единство, что вызывало у горстки ценителей восхищение, хотя сами они подчас смутно сознавали причину этого восхищения.
Например, я долго смотрел на картину, изображавшую порт в Карктюи [260] Порт в Карктюи — вымышленное место, а в описании картины, по мнению разных исследователей, отразились самые разные живописные полотна, созданные Тёрнером, Моне, Мане, Сёра и т. д. При этом картина, выдуманная Прустом, так сложна по композиции и описана таким образом, что «увидеть» ее благодаря описанию не более возможно, чем «услышать» сонату Вентейля.
, которую он завершил несколько дней назад: в ней Эльстир готовил восприятие зрителя к одной из таких метафор, используя для городка исключительно приемы, какими пишут море, а для моря — только те, которыми принято изображать город. Может быть, дело было в том, что дома заслоняли часть порта, док, в котором конопатят суда, или само море, вклинивавшееся заливом в сушу (такое наблюдалось повсюду в окрестностях Бальбека), — но по ту сторону длинной косы, там, где располагался город, корабельные мачты торчали поверх крыш, будто трубы каминов или колокольни, и придавали самим кораблям нечто сугубо городское, словно это были не суда, а здания, возведенные на твердой земле; это впечатление дополняли другие суда, пришвартованные вдоль пирса, причем так тесно, что люди переговаривались с палубы на палубу, и разделяющая их полоска воды была незаметна, так что можно было подумать, что собеседники стоят рядом, а потому казалось, что морю принадлежит не столько эта рыбачья флотилия, сколько, к примеру, крикбекские церкви, которые издали, со всех сторон окруженные водой — притом что самого города вообще не было видно, — вздымались в солнечном и морском мареве, словно выступали из волн, сами воздушные, не то алебастровые, не то пенные, замкнутые аркой переливающейся радуги, словно таинственный мираж. На первом плане, на прибрежной полосе, взгляд художника, следуя усвоенному навыку, не отметил точной границы между землей и океаном, четкой линии, их разделяющей. Люди, сталкивавшие лодку на воду, двигались не то по воде, не то по песку, в котором, из-за того что он был мокрый, отражались раковины, как в воде. И в самом море волны вздымались не ровно, а следуя прихотливой береговой линии, которая к тому же еще и дробилась согласно закону перспективы, так что корабль в открытом море, наполовину скрытый выступавшими вперед укреплениями военного порта, словно плыл посреди города; пляж, охваченный полукружием скал, по обоим краям сбегавших вниз до самой земли, полого спускался к морю, и женщин, собиравших креветки среди этих скал, окружало море, так что казалось, будто они находятся в подводном гроте, над которым громоздятся лодки и волны, а сам грот чудом остается недосягаем для волн, расступающихся перед его разверстым входом. В общем, во всей картине порта преобладало впечатление, что море вторгается в сушу, суша принадлежит морю, а люди — не люди, а амфибии; во всем сказывалась мощь морской стихии, а возле скал, там, где начинался пирс, где бурлили волны, лодки были разбросаны наискось, под острым углом по отношению к спокойной вертикальности пакгаузов, церкви, городских домов, и одни люди возвращались в город, а другие собирались на рыбную ловлю, и видно было, как напрягаются матросы, как сурово они управляются с водой, точь-в-точь с необузданным и стремительным скакуном, который легко сбросит на землю неловкого наездника. В лодке, которую трясло, как двуколку, радостно выплывала на морскую прогулку компания друзей; лодкой управлял веселый, но в то же время и внимательный матрос, натягивал снасти, как вожжи, сражался с непокорным парусом; пассажиры послушно сидели по своим местам, чтобы не сместить центра тяжести и не опрокинуть суденышко, которое летело вперед по залитым солнцем полям, по тенистым ложбинам, взмывая ввысь и скатываясь вниз. Утро было ясное, хотя незадолго до этого прошла гроза. Ее мощное дыхание еще сказывалось, но его гасило прекрасное равновесие неподвижных лодок, радующихся солнцу и прохладе на тех участках моря, где оно было настолько спокойно, что блики на волнах казались чуть ли не прочнее и реальнее, чем подернутые радужной дымкой суденышки, которые, повинуясь перспективе, словно перепрыгивали одно через другое. Хотя вряд ли можно было говорить о разных участках моря. Ведь они отличались друг от друга не меньше, чем один участок моря от церкви, вырастающей из воды, или от кораблей по ту сторону города. Потом уже рассудок признавал, что всё это — одна и та же стихия: и то, что черно после грозы, и чуть дальше то, что одного цвета с небом и такое же блистающее, как небо, и еще в другом месте то белое от солнца, тумана и пены, такое плотное, такое земное, так стиснутое окружающими домами, что наводит на мысль о булыжной мостовой или о поле, покрытом снегом, посреди которых вдруг с испугом замечаешь корабль, круто взлетающий вверх по косогору, подобно карете, которая переехала через брод и выбирается на берег, роняя капли воды; но мгновенье спустя, видя, как танцует корабль на высокой и неровной поверхности каменного плоскогорья, понимаешь, что всё это, такое разное на вид, есть море.
Можно согласиться с теми, кто говорит, что в искусстве не бывает ни прогресса, ни открытий; всё это бывает только в науке; каждый художник всё начинает сначала, заново, своими силами, и достижения других творцов не могут ему ни помочь, ни помешать; и всё же нужно признать, что искусство выявляет кое-какие законы, которые промышленность затем делает всеобщим достоянием, и тогда предшествующее искусство задним числом отчасти утрачивает былую оригинальность. Уже после того, как начал творить Эльстир, появились «замечательные» фотографии пейзажей и городов. Если попытаться уточнить, что именно обозначают этим эпитетом поклонники искусства, окажется, что обычно его относят к какому-нибудь необычному изображению известной вещи — изображению, отличающемуся от тех, к которым мы привыкли, необычному, но всё же правдивому; оно захватывает вдвойне, потому что удивляет нас, разрушает наш предыдущий опыт и одновременно приглашает углубиться в себя, напоминая нам какое-нибудь наше собственное впечатление. Например, одна из этих «превосходных» фотографий иллюстрирует закон перспективы, и вот какой-нибудь собор, который мы привыкли видеть посреди города, снят на ней, наоборот, с такой точки зрения, откуда он кажется в тридцать раз выше домов и высится, будто скала, на берегу реки, от которой на самом деле отстоит довольно далеко. Так вот, прежде чем изобразить какую-нибудь вещь, Эльстир отбрасывал свое знание о том, какова она на самом деле, и стремился запечатлеть оптическую иллюзию, которая возникает у нас при первом взгляде на нее [261] …Эльстир… стремился запечатлеть оптическую иллюзию, которая возникает у нас при первом взгляде … — Похожую мысль приписывают У. Тёрнеру: «Мое дело рисовать то, что я вижу, а не то, что я знаю».
; это стремление помогло ему выявить законы перспективы еще более поразительные, потому что впервые они раскрывались именно в искусстве. Из-за того что река петляла, из-за того что скалы, замкнувшие залив, стояли, казалось, совсем рядом одна с другой, зритель явственно видел не реку и не залив, а озеро посреди равнины или в горах, замкнутое со всех сторон. На одной картине, изображавшей Бальбек в знойный летний день, клинышек моря был словно заперт среди розовых гранитных стен и отрезан от самого моря, начинавшегося дальше. Протяженность океана была дана лишь намеком, с помощью чаек, круживших над тем, что зрителю казалось камнем, хотя на самом деле они купались в водяных брызгах. В этом же холсте проступали и другие законы: лилипутская грация белых парусов на голубом зеркале у подножия огромных скал, где они казались уснувшими бабочками, и разнообразные контрасты между глубиной теней и бледностью света. Эта игра теней, тоже опошленная фотографией, настолько интересовала Эльстира, что когда-то ему нравилось писать настоящие миражи: замок, увенчанный башней, идеально круглый, сверху переходил в одну башню, а снизу в другую, симметричную, и не то необычайная чистота нагретого воздуха придавала тени, отражавшейся в воде, твердость и блеск камня, не то утренняя дымка придавала камню воздушность тени. Или по ту сторону моря, за полоской леса, начиналось другое море, розовевшее в лучах заката, но это было не море, а небо. Свет, словно измышляя новые твердые тела, бил в корпус кораблика, гнал его в сторону, в тень, где притаился другой кораблик, и располагал ступени хрустальной лестницы на ровной, в сущности, но расчерченной солнечными лучами поверхности утреннего моря. Река, протекающая под городскими мостами, была изображена в таком ракурсе, что словно распадалась на части, здесь разливалась озером, там текла тоненькой струйкой, дальше обрывалась, наткнувшись на поросший лесом холм, где по вечерам, дыша вечерней прохладой, гуляет горожанин; и весь ритм этого опрокинутого навзничь города держался только благодаря несгибаемой вертикали колоколен, которые не устремлялись ввысь, а всей своей тяжестью будто отбивали такт, как в торжественном марше, удерживая на весу смутную массу домов, громоздившихся под ними в тумане вдоль распластанной и разорванной реки. А видневшаяся на обрывистом берегу или на горе очеловеченная часть природы, дорога (ведь первые картины Эльстира создавались в эпоху, когда пейзажи принято было оживлять человеческим присутствием), тоже, подобно реке или океану, то исчезала, то вновь появлялась, подчиняясь перспективе. И когда гребень горы, или брызги водопада, или море преграждали путнику дальнейшую дорогу, видимую для него, но не для нас, маленький человечек в старомодной одежде, блуждавший в этой глуши, то и дело, казалось, натыкался на непроходимую преграду, перед ним разверзалась пропасть, и тропа, по которой он шел, обрывалась — но на сердце у нас быстро становилось легче, потому что тремястами метрами выше наш растроганный взгляд уже замечал тонкую полоску белого приветливого песка на той же тропе, по которой шел путник: просто склон горы на время скрыл от нас боковые дорожки, позволявшие дойти до нее в обход водопада или залива.
Интервал:
Закладка: