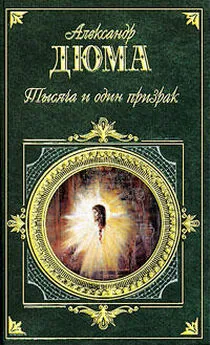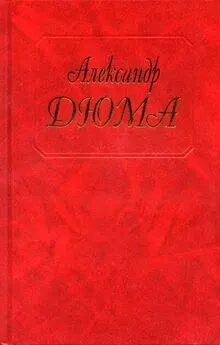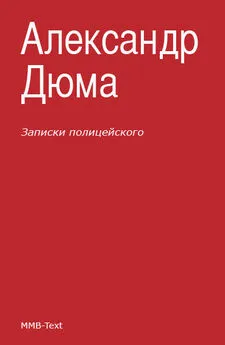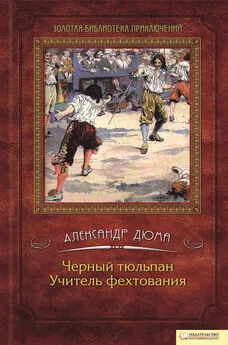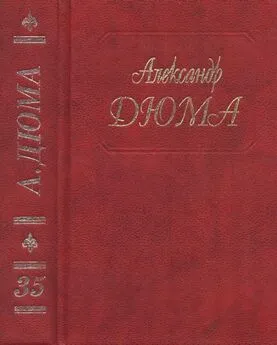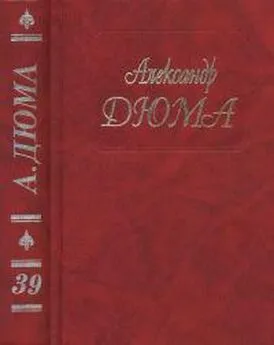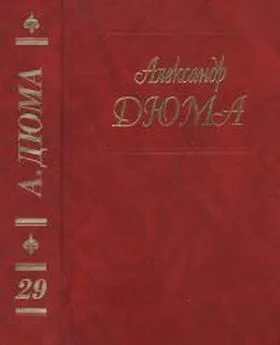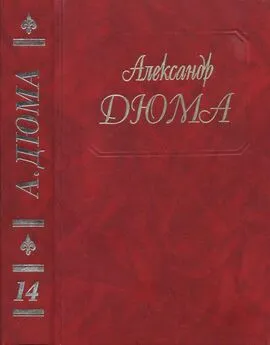Александр Дюма - Записки учителя фехтования. Яков Безухий
- Название:Записки учителя фехтования. Яков Безухий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:© АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-7287-0001-2, 5-7287-0249-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Дюма - Записки учителя фехтования. Яков Безухий краткое содержание
Записки учителя фехтования. Яков Безухий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К счастью, славной зимой 1825 года все было не так, и, по милости Божьей, никто ни на минуту не опасался оттепели; так что пока в преддверье народных увеселений аристократия задавала балы, на Неве, против французского посольства, стали строить многочисленные балаганы, растянувшиеся почти что от одной набережной до другой, то есть в пространстве шириной более двух тысяч шагов. Одновременно воздвигались русские горки, но, к моему большому удивлению, они показались мне значительно менее изящными, чем те, что устраивают в подражание им в Париже: это просто-напросто изогнутый спуск высотой около ста футов и длиной около четырехсот, сделанный из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока на них не образуется слой льда толщиной дюймов в шесть. Что же касается салазок, то это всего-навсего доска с выступом на одном краю, по форме более всего напоминающая раму носильщика, с помощью которой наши рассыльные переносят грузы. В публике снуют катальщики с подобной доской в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, они вместе поднимаются наверх по лестнице, устроенной на обратной стороне спуска; клиент или клиентка садятся на салазки спереди, упираясь ногами в выступ, а катальщик приседает на корточках сзади и управляет салазками с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков гора ничем не огорожена и вполне можно свалиться вниз с большой высоты, если салазки отклонятся в сторону при спуске. Каждый спуск на них стоит одну копейку — иными словами, менее двух лиаров на наши деньги.
Прочие развлечения весьма напоминают те, что можно увидеть на Елисейских полях в дни наших народных празднеств: это представления силачей со всех краев, кабинеты восковых фигур, показ великанов и карликов, и все это предваряется оглушительной музыкой и одинаковой у всех народов клоунадой шутов. Насколько я мог судить по их жестам, балаганные трюки, при помощи которых они зазывают зрителей, очень похожи на наши, хотя все имеют местные особенности. В одной из комических сценок, имевшей, как мне показалось, наибольший успех, был представлен отец, с нетерпением ожидающий своего новорожденного сына, которого вот-вот должны привезти из деревни. Появляется кормилица с ребенком на руках, до того запеленатым, что виден только его черный носик. Отец, придя в восторг при виде своего громко ворчащего наследника, находит, что тот лицом пошел в него самого, а ласковостью — в мать. При этих словах появляется мать ребенка и слышит сделанный ей комплимент; комплимент приводит к ссоре, а ссора — к драке; оба родителя тянут младенца каждый в свою сторону; он выпадает из пеленок и оказывается медвежонком, которого публика встречает бурными рукоплесканиями; отец же начинает догадываться, что ему подменили ребенка.
В последнюю неделю масленицы на ночных улицах Санкт-Петербурга появляются ряженые, которые ходят из дома в дом, устраивая розыгрыши, как это принято в наших провинциальных городах. Один из наиболее часто встречающихся маскарадных нарядов — костюм парижанина, состоящий из тесно облегающего долгополого сюртука, сорочки с сильно накрахмаленным воротником, возвышающимся над галстуком на три-четыре дюйма, завитого парика, громадного жабо и маленькой соломенной шляпы; эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки, болтающиеся на поясе у щеголя, и цепочки, висящие у него на шее. Однако, как только маску узнают, непринужденность в обращении с ней пропадает, этикет вступает в свои права, к шуту вновь приходится обращаться «ваше превосходительство», а это не может не лишить прелести весь розыгрыш.
Что касается простого народа, то, словно заранее вознаграждая себя за суровость Великого поста, он спешит поглотить все, что может, по части мясного и спиртного; но едва только пробьет полночь, отделяющую чистый понедельник от воскресенья, на смену этим излишествам приходит воздержание в пище, причем столь добросовестное, что остатки трапезы, прерванной с первым ударом колокола, с последним его ударом оказываются уже выброшенными собакам. И тогда все меняется: похотливые жесты обращаются в крестные знамения, а шумные пирушки — в молитвы. Перед иконами в домах зажигаются свечи, а церкви, до того безлюдные и, казалось, совершенно забытые, с каждым днем становятся все теснее для молящихся.
Но как ни блестящи еще и сегодня эти празднества, они не выдерживают никакого сравнения с теми, какие бывали прежде. Так, например, в 1740 году императрица Анна Иоанновна решила затмить в этом отношении своих предшественников и устроить такой праздник, который был под силу лишь русской императрице. С этой целью она приурочила к последним дням масленицы свадьбу своего шута и разослала всем губернаторам приказ прислать на эту церемонию по два человека обоего пола от всякой народности, обитающей в той или иной губернии, причем приехать они должны были в своих национальных костюмах и на обычных для них средствах передвижения.
Приказ императрицы был точно выполнен, и в назначенный день могущественная государыня могла наблюдать, как в Санкт-Петербург прибывают представители ста различных народностей, многие из которых едва были ей известны даже по названию. Здесь были камчадалы и лопари: одни в санях, запряженных собаками, другие — в санях, запряженных северными оленями; калмыки на коровах; бухарцы на верблюдах, индийцы на слонах и остяки на лыжах. Возможно, впервые лицом к лицу встретились прибывшие с противоположных окраин империи рыжеволосые финны и черноволосые черкесы, великаны-украинцы и пигмеи-самоеды; наконец, отталкивающего вида башкиры, которых их соседи киргизы называют «истаки», то есть «грязные», и красавцы из Грузии и Ярославля, дочери которых оказывают честь гаремам Константинополя и Туниса.
По прибытии в столицу представителю каждого из народов в соответствии с географическим положением губернии, в которой он обитал, отводилось место под одним из четырех знамен: одно обозначало весну, второе — лето, третье — осень, четвертое — зиму; затем, когда все они оказались в сборе, их странная вереница начала шествие по улицам Санкт-Петербурга, и хотя в течение недели эта процессия повторялась каждый день, она никак не могла насытить всеобщего любопытства.
Наконец, настал день свадебной церемонии. После службы в дворцовой церкви новобрачные отправились в сопровождении своей шутовской свиты во дворец, который приказала выстроить для них императрица и который по своей причудливости был под стать всему празднеству. Дворец этот, целиком сделанный изо льда, имел в длину пятьдесят два фута, а в ширину — двадцать; все его украшения, и наружные и внутренние, все его столы, стулья, подсвечники, тарелки, статуи и прозрачное брачное ложе, баллюст-рада на крыше и фронтон над входом — все было из льда, искусно окрашенного под зеленоватый мрамор; обороняли дворец шесть ледяных пушек, из которых одна, заряженная полутора фунтами пороха и ядром, приветствовала выстрелом новобрачных, разбив при этом в семидесяти шагах от нее доску толщиной в два дюйма. Но самым любопытным в этом ледяном дворце был колоссальный слон: на нем восседал погонщик-перс, вооруженный с головы до ног, а по бокам его стояли две невольницы; этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат с площади Бастилии, служил попеременно то фонтаном, то фонарем: днем он извергал из своего хобота воду, а ночью — огонь; кроме того, в соответствии с привычкой, присущей этим животным, он испускал посредством восьми или десяти человек, забиравшихся в его пустое тело по полым ногам, страшные крики, которые были слышны по всему Санкт-Петербургу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: