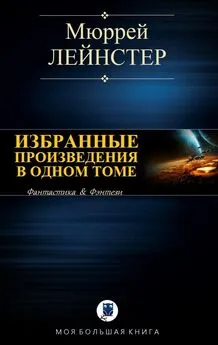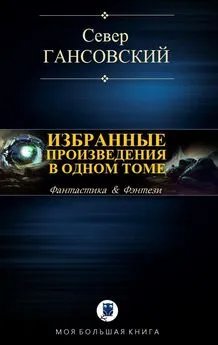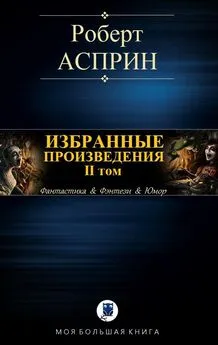Асорин - Асорин. Избранные произведения
- Название:Асорин. Избранные произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00347-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Асорин - Асорин. Избранные произведения краткое содержание
Асорин. Избранные произведения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И все. Но этого довольно — передо мною живо встают те жгучие недели — засуха: жухнут поля, засыхают деревья, роняя скукоженную листву; пыль стоит над дорогой; старухи в черном, стеная, воздевают руки, а в сумраке комнат, терзая крестьян, прикованных к дому, витает глухая злоба, обрушиваясь по временам, как буря, на детей и потухая в их плаче.
ДЯДЯ АНТОНИО
Добряк и скептик дядя Антонио постоянно носил длинную, тонкой работы золотую цепь, дважды обернутую вокруг шеи; еще он любил надевать шапочку, сшитую на старинный манер — с двумя тесемками сзади, и лишь изредка появлялся в широкополом котелке с низкой тульей. Ежеутренне выходя за покупками, он облачался в поношенное пальто с пелериной и брал маленькую плетеную корзинку, утопавшую в складках его одеянья.
Дядя был человек чувствительный; когда за стеной звучал рояль, он усаживался в качалку и под мерное колыхание кресла тихонько мурлыкал себе под нос итальянскую арию… Помню его круглую, оплывшую голову, щетку усов, скрывавшую верхнюю губу, и пухлый двойной подбородок, подпертый воротничком наглухо застегнутой рубашки… Не знаю, учился ли дядя Антонио когда-нибудь в университете; мне кажется, начинал, а вот кончить не сумел. Однако был он от природы сообразителен, что поважнее диплома, и обладал практической сметкой, не говоря уже о цитадели его доброты, столь могущественной, что всякий раз, как я вспоминаю дядю, меня обдает волной умиления.
Состояние дяди было невелико, что, впрочем, нимало его не угнетало. Владел он пахотной землей и небольшим виноградником, в который вкладывал всю душу. Всякий день он возился с лозами — нагибался и выбирал камешки, борясь с одышкой.
Я сказал «всякий день», а это неправда — бывало, он и не появлялся на винограднике, потому что пристрастился не то к картам, не то к домино, не то к какой-то другой вполне невинной игре и пропадал в казино до поздней ночи.
Почему-то я уверен, что дядя Антонио бывал в Мадриде; не знаю когда и зачем, подолгу или проездом. Помню, как зачарованно я слушал, взобравшись к нему на колени, рассказы о столичной жизни, разбередившие мое детское воображение. В дядиной гостиной, в углу возле шкафа, на кольце качалось чучело попугая; по стенам вместо картин висели вышитые крестиком собачки, на консоли стояли коробочки из ракушек. И когда дядя прерывал свой рассказ, заслушавшись мелодией из «Севильского цирюльника», мне мерещился волшебный город, то есть Мадрид — огни, театры, парки и множество экипажей, с грохотом несущихся мимо.
ТЕТЯ БАРБАРА
Что же до тети Барбары, то скажу сразу, что зову ее тетей не потому, что она мне кровная родственница; кем именно она мне доводится, я просто не знаю. Троюродной, кажется, теткой по отцовской линии. Махонькая такая, согбенная годами старушонка с желтым морщинистым личиком, всегда в черном платье, в черной мантилье. Хотел бы я знать, о чем они вздыхают все время, эти сухонькие старушки в черном… Тетя Барбара вечно теребила в руках четки, не пропускала ни одной мессы, ни одного поминанья. А когда, возвращаясь из церкви, навещала дядю Антонио и заставала меня у него, неизменно кидалась ко мне с причитаниями и поцелуями.
Но я погрешил бы против истины, если бы тетя Барбара заговорила на этих страницах: никогда не слыхал я от нее ни единого слова, а причитания вроде «Господи, боже ты мой!» не в счет. И все-таки мне кажется, что именно она рассказывала мне о том, как в 1808 году Еклу взяли французы.
Так вот и жила в своем крохотном домике эта маленькая, согбенная годами старушонка, всякий день поспешая в церковь, благо в Екле уж где-нибудь да служили мессу, а на обратном пути обходя — никого не пропуская — родственников. Усаживалась на краешек софы и, сочувственно кивая, выслушивала очередную горестную новость и, крестясь, причитала: «Господи, боже ты мой!»
ДЕДУШКА АСОРИН
Когда-то в начале девятнадцатого века в Екле побывал художник и запечатлел моего прадеда по отцовской линии. Имени этого художника я так и не разузнал, однако большой ценитель Эль Греко писатель Пио Бароха не раз останавливался как зачарованный перед этим странным холстом. Писан портрет просто и строго, колорит его сумрачен. Прадед мой изображен замкнутым, задумчивым человеком; длинные пепельные волосы зачесаны назад, лицо гладко выбрито, глаза невелики и прикрыты, словно бы ему предстало виденье (а так оно и было — вечно ему мерещилось что-то далекое и чудесное); рот у деда, пожалуй, великоват; нос нависает клювом.
Голова старика с портрета слегка наклонена, виден узел шейного платка, а над ним, по краям подбородка, два белых треугольника — концы крахмального воротничка; пониже платка еще один белый треугольник — манишка. Дед облачен в черный сюртук, поверх которого накинут плащ, тоже черный, со стоячим воротником. Из складок плаща на уровне груди высовывается желтоватая костистая старческая ручка, со спокойным достоинством указывающая на книжную полку справа — там пять или шесть зеленых и красных переплетов.
Странно — судьба свела их в нашем жалком городишке, и тот таинственный художник на века запечатлел провинциального старика-философа. А дед мой и вправду был философом: то далекое и чудное, что мерещилось ему, было благодатью божьей, видением господа во славе своей, всеведущего и всемогущего. Скажу проще — дед мой был теологом.
Не раз дядя Антонио говаривал мне, что дед дал бы сто очков вперед самому Бальмесу, в чем я не уверен, хотя спорить здесь не о чем, раз дедовы труды не изданы и никому не известны. Я храню его бумаги: есть среди них объемистая рукопись под названием «Философия Символа, или Мои рассуждения о религии и политике» и другие сочинения, касающиеся религиозных догматов и мистики.
Дед мой был так скромен, застенчив и непритязателен, что и не думал о публикации своих книг, и только исключительные обстоятельства вынудили его отдать в печать два своих сочинения. Одно — собрание молитв Святому Исидро Пахарю; это друзья и соседи (те самые старушки с четками, всегда в черном, и старики, что вечерами заходили погреться у очага) упросили его отдать молитвенник в типографию. Напечатать же вторую книжку он счел своим долгом.
Не знаю, как в точности развивались те драматические события, но суть в том, что в далекой Франции некто Талейран, позабывший о своем епископском сане, взял в привычку богохульствовать в своих речах, что до крайности огорчило сухонького старичка, обитавшего в испанском захолустье, а именно в Екле. То был мой прадед. Мыслил он глубоко и четко, писанье было для него делом привычным — и мог ли он, ревностный католик, оставить богохульство без отповеди? Никак не мог! «In communi causa, — полагал он, — omnes homo miles» [51] В общем деле всякий воин ( лат. ).
. И прадед мой написал замечательный по своей учености ответ Талейрану, отдал его алькойскому издателю и вскоре получил книжечку, отпечатанную жирным квадратным шрифтом на шершавой бумаге с неровными краями — не хуже, чем из знаменитой валенсийской печатни Кабрерисо. Я прочитал эту книжечку. Эпиграфом к ней поставлена та самая латинская фраза, которую я привел, а называется дедово сочинение «Ответ князю Талейрану по прочтении его послания Папе Римскому Пию Седьмому, будь оно написано». Я прочитал «Ответ». Конечно, сегодня эта пылкая отповедь звучит архаично, но все же есть в этом сочинении истинного философа, сухонького старичка с портрета, глубокие и трепетные слова о времени и вечности.
Интервал:
Закладка:
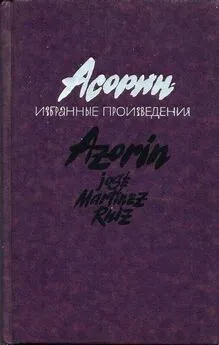

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)
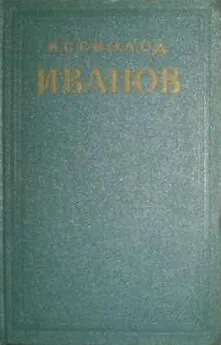

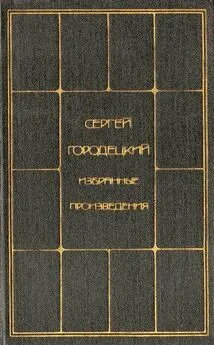
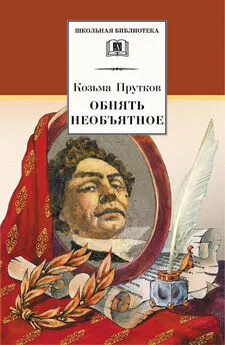
![Франсис Карсак - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/1060560/fransis-karsak-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome.webp)