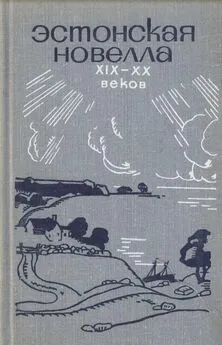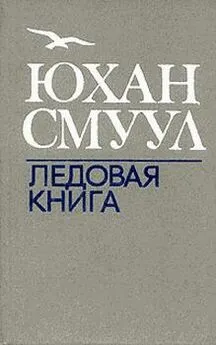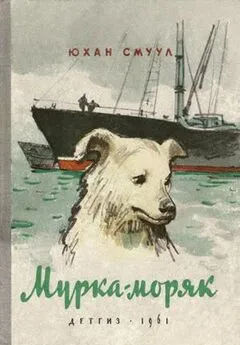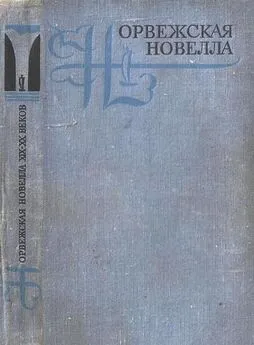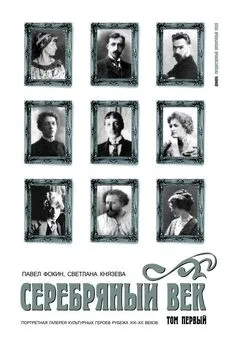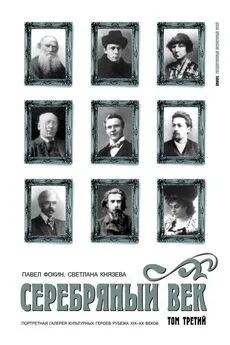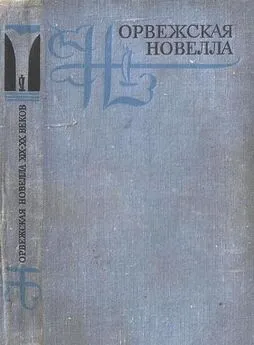Юхан Смуул - Эстонская новелла XIX—XX веков
- Название:Эстонская новелла XIX—XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1975
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юхан Смуул - Эстонская новелла XIX—XX веков краткое содержание
Эстонская новелла XIX—XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Его просительно поднятая лапа, его толстая коричневая лапа, как бы гладящая воздух либо колено, еще и теперь, возникая в памяти, способна пробудить во мне какое-то нетерпеливое беспокойство, которое словно бы понуждает то ли разозлиться, то ли заплакать. Ему пришлось множество раз поднимать так лапу, прежде чем мы научились полнее понимать друг друга, прежде чем каждому из нас стал ясен, столь непохожий на его собственный, язык другого, так же как и мимика, и звучание голоса. И Нээро было особенно трудно приноровиться ко всему тому, чего хочет и на что способен мальчик, имеющий много возможностей, для собаки непостижимо беспредельных, мальчик, у которого возникают тысячи желаний, непонятных и загадочных. Но Нээро было ясно одно: он должен делать все то, что делаю я. И он в отчаянии выл, оттого что не мог влезть следом за мною на дерево. Однако взбираться на чердак хлева по лестнице я его научил. И там у него были свои радости и переживания, о глубине которых я мог лишь догадываться по тому, с каким рвением он что-то вынюхивал, фыркал и повизгивал. На этом чердаке водились крысы, ласки и хорьки. Нээро осваивал лазание по лестнице с поразительной самоотдачей, дыхание его стало прерывистым, каждый мускул тела вздувался от напряжения, сердце колотилось сквозь ребра о мои ладони тяжко и быстро, словно мотор машины, наделенный неутомимой энергией.
Когда Нээро уже научился лазать самостоятельно, случалось, его задние лапы оступались и теряли перекладину лестницы. Тогда он повисал перпендикулярно земле, спина его выгибалась горбом, толстые и кривые передние лапы, точно крючки, обхватывали верхнюю перекладину лестницы, в то время как задние пытались найти опору. Но особенности строения тела собаки не позволяют ей отводить далеко назад задние лапы, хотя порою это и случается, когда собака потягивается спросонок. В то время я еще не умел последовательно мыслить и не сообразил обучить Нээро этому движению, этому нащупыванию лапой опоры за спиною. Я ограничивался тем, что ставил лапу назад на перекладину, если хотел. Если же мне это надоедало, предоставлял Нээро висеть на лестнице до тех пор, пока он не срывался с нее. Правда, я заботился о том, чтобы внизу была постелена солома. И Нээро, с вываленным языком, с полуозлобленной гримасой энергии на бугорчатой морде, принимался с новым рвением опять влезать по лестнице. Но назад мне приходилось его нести — было ясно, что его удлиненное, коротконогое туловище не приспособлено для лазания по лестнице вниз головой.
Нээро непременно должен был повторять за мною все, что я делал. Он делал это добровольно и с увлечением. Он мог просматривать со мною книги, обнюхивая их страницы. Мог, когда я писал свои первые письма, положить на письмо лапу. И словно бы понимал мои действия, если я обмакивал ее в чернильницу и скреплял свое послание и его «печатью».
Позже ему было крайне неприятно плавать со мною в обнимку под водой, но он считал это обязательным для себя, потому что мне так нравилось. Правда, он относил такого рода занятие к разряду глупых шуток, жертвой которых то и дело оказывался, и поэтому, хорошенько откашлявшись и отфыркавшись, накидывался на меня с тем полусмеющимся, полувозмущенным видом, который у людей называется смехом сквозь слезы, и кусал меня, повизгивая, с горловым рычанием.
Если кто-нибудь считает себя вправе покачать головой, это означает лишь, что мои воспоминания о Нээро написаны не для него. Я пишу для тех, у кого есть глаз на животных и дар, да и желание, их понять. Мой Нээро определенно умел смеяться. Не так, как смеются некоторые пастушьи собачонки, обнажая зубы — это, конечно, тоже смех, но более примитивный. Нечто вроде гримасы страха с примесью диковатой трусливой застенчивости. Я отнюдь не собираюсь очеловечивать животных, когда способностям и свойствам, которые у них общие с человеком, даю и сообразные названия. Нээро мог смеяться.
Правда, это была скорее улыбка, и лишь в самые значимые и исключительные мгновения жизни пасть его могла вдруг широко растянуться в беззвучном смехе. Именно так Нээро смеялся, когда я однажды приказал ему выдворить из огорода поросят. Вначале Нээро подталкивал их мордой, когда же придавал им нужное положение и направление, осторожно брался зубами за хвостик и, смеясь во весь рот, одного за другим выпроваживал из огорода. Но старую свиноматку он прежде опрокинул на бок. Поросята же были маленькие, с ними Нээро обошелся по-иному. И вовсю смеялся.
Я далек от утверждения, будто Нээро при этом осознавал комизм положения. Если бы я так думал, то попал бы в число тех, кто пытается приписать животным одинаковую с людьми причинность поведения. У Нээро, несомненно, отсутствовало понятие о комичности. Ему, вероятно, было просто-напросто весело оттого, что он мог так порезвиться, — загривки у поросят скользкие, за что-нибудь другое их тоже не ухватишь, вот и оставался хвостик. После того как Нээро управился с первым поросенком, ему было уже ясно, за что надо хватать. И когда поросята резво семенили впереди него — это ведь было весело, не правда ли? Так же весело, как вылавливать морских свинок из высокого цикория, из-под широких листьев клубники или из моркови. Отыскав морскую свинку, Нээро быстро накрывал ее лапой, осторожно брал за загривок и тащил к загородке. Пронеся над верхней планкой, разжимал зубы, и свинка шлепалась вниз. При этом Нээро тоже смеялся. Но не в тот момент, когда они падали. Он оглядывался на меня, словно спрашивал, нельзя ли их еще потаскать, вытащить из загородки и снова поносить в зубах. Эта ловля и таскание веселило, развлекало его, и оттого он смеялся.
А однажды, когда Нээро уже состарился и более не соблюдал в еде той меры, какая была свойственна ему смолоду, он объелся простоквашей. День стоял жаркий, простокваша была вкусная и прохладная. Приятно было разлечься на солнышке. И Нээро лежал на земле, словно маленький бочонок, губы его растянулись в улыбке, он весело подмаргивал одним глазом, не поднимая головы, и лениво помахивал хвостом. Он был беспредельно доволен собою, он походил на развеселого пьянчужку, уже ни на что не способного, кроме как плутовски поглядывать и с усталой откровенностью махнуть рукой, да разве что еще пробормотать: «Плевать мне на весь мир, браток, видишь, как я нализался!» В тот раз я был убежден, что Нээро так или примерно так думает, хотя не знаю, сколь далеко простирается способность собаки связно мыслить, но я и впрямь верю, что он хотел сказать: «Мне сейчас очень хорошо». И потому во весь рот смеялся, смеялся от теплого солнца, от холодной простокваши у себя в желудке, от своей божественной лени и еще оттого, что я всегда был его другом.
Но и плакать Нээро тоже мог. Не так ведь и существенно, чтобы текли слезы; правда, подернутые влагой глаза обычно не привлекают столь большого внимания, но тем не менее это для животного ultima ratio [11] Ultima ratio — решительный довод (лат.).
при выражении своей скорби, и тем самым трогает нас, а иногда даже и потрясает. К слову сказать, если бы животные могли по-настоящему плакать, род человеческий, вероятно, был бы менее жестокосерден и безжалостен. Возможно, и австралийские аборигены были уничтожены пулями белых в какой-то мере еще и потому, что умирали без слез, подобно животным. И индейцы тоже не плакали.
Интервал:
Закладка: