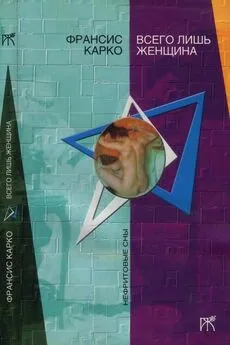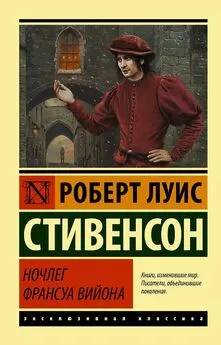Франсис Карко - Горестная история о Франсуа Вийоне
- Название:Горестная история о Франсуа Вийоне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Продолжение Жизни
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-94730-047-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франсис Карко - Горестная история о Франсуа Вийоне краткое содержание
Горестная история о Франсуа Вийоне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А ты чего ждешь? Давай уноси ноги!
Глава XIX
Франсуа уходил, исполненный смятения. Нет, это был не сон. Он действительно свободен. Ему вручили пергамент, удостоверяющий помилование, и теперь он мог, не боясь официала, медленно, как старик, брести по дороге, тихонько постанывая и время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться небом, деревьями, дальним лесом, птицами. Погода стояла дивная. Нежаркое осеннее солнце золотило кроны деревьев, уже сбросивших часть листвы, а в воздухе витал затаенный запах брожения, вянущей травы и палых листьев. Иногда с дерева плавно планировал облетевший лист, а то вдруг начинали сыпаться каштаны: они падали на землю, как камни, подскакивали и откатывались в сторону.
Вийон доплелся до леска, прошел через него и вышел к полям, где крестьяне уже пахали зябь. Но, Господи, как ему было больно! Истерзанные ноги, обмотанные грязными тряпками, которые он подобрал в придорожной канаве, едва держали его. Затверделые суставы трещали. А ведь его давно уже не подвергали пытке. Какое великодушие с их стороны! Три месяца назад его схватили, полного сил, и вот теперь соблаговолили выпустить — изможденного, обессиленного, ломаного-переломанного, трясущегося от лихорадки. На что он теперь пригоден? Он надрывался от кашля. Его бросало то в жар, то в холод. Он обливался болезненным потом. Стучал зубами, и даже мысль о Париже, где он, конечно же, оживет, придет в себя, не вызывала ни радости, ни горечи, а лишь заставляла думать, сколько еще предстоит пройти, прежде чем он доберется туда.
Но он все равно из последних сил брел в Париж и каждый вечер после долгого, тяжкого дня пути, истомленный усталостью и голодом, говорил себе, что еще немножко приблизился к нему. Франсуа умер бы, если бы не людское милосердие. Ему подавали. У него был такой жалкий, отчаянный вид, что иногда в деревнях он не успевал даже протянуть руку за милостыней, как женщины уже давали ему кусок хлеба или мелкую монетку и, узнав, куда он идет, сочувственно качали головами.
— Ну вам еще идти и идти, — говорили они.
А некоторые, когда он спрашивал дорогу, молча махали рукой, показывая, в каком направлении ему идти, а потом долго смотрели вслед с сочувствием и со страхом. Ночевал он на сеновалах, когда его туда пускали, иногда даже в доме, но чаще всего в скирдах да стогах, извечном приюте бродяг. Он зарывался в сено, и там ему было божественно тепло. Просыпался он с первыми трелями жаворонков, выходил на дорогу и удивлялся, что чувствует себя не таким разбитым.
Это так действует на него Париж, уверял он себя. Франсуа постоянно думал о нем, говоря, что это его единственное прибежище, и к нему постепенно возвращались силы. За неделю он проделал изрядный кусок пути, гораздо больше, чем ожидал. Настроение у него поднялось. Проходя через деревню, он улыбался людям, здоровался, а когда ему подавали милостыню, благодарил и говорил:
— Храни вас Господь иметь дело с монсеньором епископом д’Оссиньи. Верьте мне. А не приведи Бог, судьба сведет вас с ним, вы его надолго запомните.
Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он продолжал свой путь. Франсуа брел по дороге, разговаривал сам с собой, а то вдруг начинал охать, стонать — это когда наплывали воспоминания, о муках, какие пришлось ему претерпеть, но теперь, слава Богу, все они в прошлом.
— Эх, Франсуа, Франсуа, — бормотал он под нос. — Тебе уже тридцать лет, а из-за своего безрассудства и грехов ты за эти тридцать лет изведал бед и несчастий больше, чем об этом можно прочесть в книгах. Но теперь ты набрался разума. Так что постарайся, дружок, отныне жить спокойно и благоразумно.
Как-то вечером он вот так же говорил сам с собой, и вдруг его пронзила немыслимая скорбь: он подумал, что у него ничего нет, и сам он ничто, и Колен с Ренье мертвы. Мысль эта преисполнила его отчаянием. Какой радости можно ждать от жизни, если друзья погибли? Да и какой смысл жить? Ему вспомнились виселица в Мене, Колен, его огромный вздувшийся живот, каменный мешок в тюремной башне, официал, пытки, которым его подвергали, и он уже больше не испытывал счастья, оттого что остался жив, напротив, ощущал полнейшую безнадежность. Какой смысл возвращаться в Париж, ежели жизнь, которая его там ждет, уже сейчас вызывает у него отвращение? На что он может надеяться? Дядя примет его скрепя сердце. Несчастная его матушка будет плакать и попрекать за то, что он так неразумно вел себя. Да, они примут его, но есть ли смысл так стремиться к ним? Франсуа брел по дороге, заунывно причитая. Что он принесет после пятилетнего отсутствия? Ничего. Собственную кожу да кости. Да и кожа эта ничегошеньки не стоит. Он, который всегда любил возвращаться с понтом, даже в собственных глазах выглядел полнейшим ничтожеством. Увы! Это расплата. Все его прегрешения, заблуждения, слабости обступили его, выдвигали обвинения, точно на суде, приводили неопровержимые свидетельства, под гнетом которых он только низко клонил голову, упрекали в том, что он вечно потакал своим дурным наклонностям, и в душе он признавал, что все это истинная правда.
И вот тогда, чтобы оправдать себя, доказать, что не зря он шлялся по дорогам, страдал, любил, плакал, стенал, был на волосок от петли, хотя, быть может, и вполне заслужил помилования, Вийон решил написать большую поэму, которая станет искуплением всей его жизни. «Лэ» — это так, безделица, шутка, и сейчас, наверное, никто эту поэмку и не помнит.
— А здесь я предстану во плоти и крови, такой, каков я есть, — шептал Франсуа. — И таким меня и запомнят…
И, не откладывая в долгий ящик, он стал искать размер, ритм, слова:
Лет тридцати испил сполна я
Всю чашу горя и позора,
Хотя себя не принимаю
Ни за святого, ни за вора.
В Тибо же д’Оссиньи, который
Меня обрек на долю ту,
В тюрьму упрятав из-за вздора,
Я сан епископский не чту [51] Здесь и далее строфы из «Большого завещания».
.
Стихотворные строки сами выпевались, подталкивали друг друга, сменяясь на устах, не было нужды искать рифмы, они приходили сами, стихи без всяких усилий Франсуа обретали форму, метр, ритм, словно они только и ждали этого чудесного мига, чтобы окликнуть друг друга, отозваться, очнуться ото сна, от забвения и издалека обменяться знаками, что они узнали друг друга.
— О, этот сволочной Тибо! — с ненавистью выдохнул Франсуа.
Я не вассал его, не связан
С ним нерушимостью обета
И за одно ему обязан —
За хлеб и воду, чем все лето
В темнице, солнцем не прогретой,
Мне стража умерщвляла плоть.
С такой же щедростью за это
Пускай ему воздаст Господь!
Поэма возникала прямо на глазах, обретала плоть. В ней слышался тайный ритм, подобно тому как в раковине слышится глухой шум моря; ритм этот придавал ей жизнь, он трепетал в душе Франсуа, и Франсуа передавал его строкам и строфам, где-то усиливал, где-то, напротив, сдерживал, и вскоре, подчиняясь уже целостному замыслу поэмы, он с рождением каждой новой строфы все точнее и увереннее управлял его биением.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



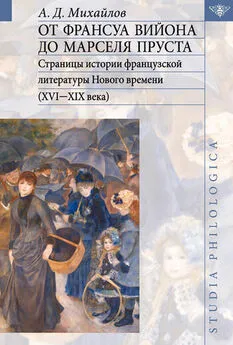

![Яцек Комуда - Имя Зверя. Ересиарх. История жизни Франсуа Вийона, или Деяния поэта и убийцы [litres]](/books/1083195/yacek-komuda-imya-zverya-eresiarh-istoriya-zhizni-fra.webp)