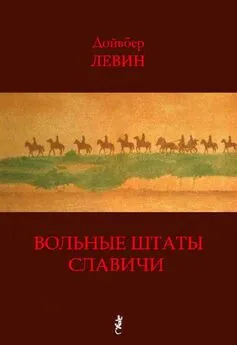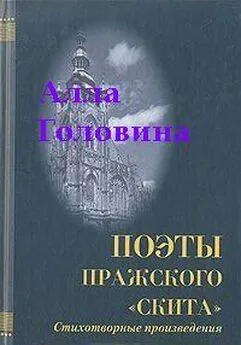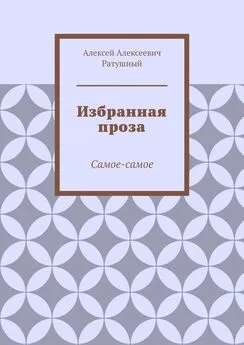Алла Головина - Избранная проза и переписка
- Название:Избранная проза и переписка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Головина - Избранная проза и переписка краткое содержание
Проза Аллы Головиной - лирические новеллы и рассказы из жизни эмиграции. Для нее характерны сюжетная фрагментарность, внимание к психологической детали, драматизация эпизода, тяготение к сказовой форме изложения.
В основе данного собрания тексты из двух книг:
1. Алла Головина. Вилла «Надежда». Стихи. Рассказы. «Современник». 1992. С. 152-363.
2. Поэты пражского «Скита». Росток. М., 2007. С. 293-299, 362-393, 431-448.
Избранная проза и переписка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нам запретили читать сочинения друг у друга, чтобы «ничем не заражаться», как сказал инспектор, и очередную кипу человеческих документов быстро и брезгливо отослал в Прагу, где и было понатаскано в книжки все, что рисовало нас с лучшей и трогательнейшей стороны.
А в младших классах тоже написали. Там воспоминания начинались иногда с какого-то парохода, с забытых, брошенных в порту игрушек или прямо с описания босых пожарных в Константинополе. Эти дети были уже окончательно безответны перед Историей и, вероятно, считали себя попросту чем-то вроде какого-то славянского меньшинства чехословацкой республики.
Я вспоминаю их с жалостью издалека, почти случайно, потому что интересовалась ими мало, потому что их было слишком много, и к концу моего пребывания в гимназии они уже не были связаны с нами даже пароходами, потому что самые маленькие новые гимназисты родились в Праге и русскому языку кое-как научились у нас же в гимназии. В 1935 году, и в последний раз, приезжала в нашу гимназию и, не найдя среди детей ни одного знакомого лица, разговорилась от нечего делать на гимназическом балу с мальчиком, восьмиклассником, как две капли воды похожим на Колю Макарова, но называвшимся, увы, Уваровым Павлушей.
— Я вас знаю, — весело сказал он мне. — Вы окончили гимназию в 1928 году. Все думали, что вы провалитесь на экзамене. Вы писали рассказы из гимназической жизни. Потом вы вышли замуж и приезжали сюда с сыном. Почему вы не отдали его к нам?
— Это долго объяснять, — сказала я. — Я вас не помню. В котором году вы поступили в гимназию?
— В 1923 году, — ответил он, смеясь. — В детский сад. Ваша сестра носила меня на руках.
И завеса упала с моей памяти, и я вспомнила ранние материнские инстинкты моей сестры, носившей в объятиях и на голове всех маленьких обитателей лагеря.
Павлуша и тогда был веселый и доверчиво рассказывал мне или не мне, что украл кубик и закопал его за церковью, чтобы его не заставляли складывать каждый вечер гусей у корыта.
А теперь он был выше меня на столько же, на сколько когда-то Загжевский, так же не замечал унылую группу своих поклонниц, как Загжевский так же смеялся и хорошо танцевал, как Коля Макаров, и воротничок его был безукоризненно чист. Только не было около него Морковина, моего брата, Дозика Марущака, всей плеяды «интеллектуальных друзей», «коварного врага» — Стоянова. И было очень странно танцевать с ним все в том же зале, под звуки того венского вальса, и знать, что какая-то девочка, похожая на дурочку Галю Щербинскую, наверное, спрашивает в дверях налево и направо: «Вы Павлушу Уварова видели?»
Благодаря упавшей с памяти завесы, я начала вдруг узнавать другие лица, и львица бала обернулась еще одною малюткою из детского сада, а развязно курящий мальчик, которого можно было принять с первого взгляда за Троилина, оказался просто первенцем одного из воспитателей, которому были посвящены в свое время стихи одним из членов литературно-философско-богословского кружка, разогнанного в 1926 году:
О ты, который потому что
Вдали от Дона родился.
Этот, родившийся не на Дону, мальчик танцевал все же казачка в перерыве между танцами в кругу зрителей, и ему парадоксальным образом нечего было, по-видимому, бояться денационализации.
Зато многие говорили между собою уже по-чешски, потому что по желанию родителей ходили из лагеря в чешскую народную школу в городок, имели свои интересы на стороне от русской гимназии и так неприятно поразили меня, что я импульсивно взгрустнула и сказала Павлуше Уварову:
— Вам бы пошел русский гусарский мундир, Павлуша.
— Да, — сказал он, — но я никогда не буду русским гусаром. Но я буду выступать в «У Лукоморья», и вы увидите, как мне идет костюм богатыря.
— Алеша Попович? — догадалась я.
— Нет, — сказал он простодушно. — Почему же?
И вот потух свет в зале, появилась составная из учеников лошадь, на ней оказался Павлуша, на сцене громыхнул цепью кот ученый, и началась гимназическая постановка.
«Налево — сказку говорит», — спокойным голосом вещал Павлуша в золотых доспехах, прикладывал руку щитком к синим своим глазам и всматривался в кота. А я лично видела эмигрантскую сказку моего детства, жалела, что мой старший брат лежит больной в Праге, куда он наконец заехал на радость Морковину, и вслед за строкой «и тридцать рыцарей прекрасных» чуть ли не воочию увидала выпуск Стоянова и Загжевского, встающий, как из вод забвения, из-за крупных билибинских волн в глубине все той же сцены.
Я так расстроилась, что написала потом в Праге стихи о нашей гимназии, и, что самое странное, о ней же написал балладу и мой больной брат (что был у нас гимназист, а теперь его нет), выслушав мой сбивчивый рассказ о власти прошлого, о составной лошади и о золотом забрале, где говорилось, что «в пасхальном дуновеньи марта, принимая новый вариант, ты узнаешь промелькнувший фартук, эти косы и широкий бант».
Я подымала в тот свой приезд более и более завесу забвения, как забрало, скрывающее мое, за суетой подзабытое, детство. И на второй же вечер, после того моего приезда в гимназию, я уже запросто смешалась с толпой учеников, нисколько не чувствуя себя больше «пражской дамой», и с радостным изумлением смотрела, как гимназия празднует свое тринадцатилетие. Я ахала, глядя на китайских рыб, носимых на шестах (потому что надо ведь было считаться с тем, что устроитель праздника, латинист, приехал сюда из Харбина), спотыкалась о смоляные плошки, сделанные из банок от ваксы, и ждала с замиранием сердца появления особого сюрприза из боковой аллеи. И когда оттуда выехал пароход на чьих-то невидимых в темноте плечах, сделанный сплошь из лампочек, белых, синих и красных, с надписью по борту «Россия», я всплеснула руками и спросила какую-то маленькую девочку:
— А где же матросы?
И она сказала:
— Они идут внизу. Они несут этот корабль, выдуманный одним моим одноклассником, Яном Поспишилом.
Корабль, задуманный чехом, сверкал национальными цветами, спотыкаясь о плечи матросов, проплыл мимо главного здания с классами и исчез за домом почтальона, потух, как огонь Эльма.
В пору моих гимназических лет нам, ученикам постарше, почти никогда не приходилось встречаться с детским садом и с приготовительными классами. Но теперь я должна вспомнить и этих детей, я должна их увидеть еще раз, потому что роман о Загжевском без этой части статистов остался бы все же в чем-то недоговоренным и даже, пожалуй, снобистским.
Начать с того, что вообще именно мать Загжевского преподавала в приготовительных классах все предметы, и я во время своих случайных визитов к ней на квартиру заставала зачастую Загжевского в обществе не воображаемых соперниц или испорченных друзей, но в кругу понурых небольших мальчиков и девочек, что-то грязно писавших в тетрадях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: