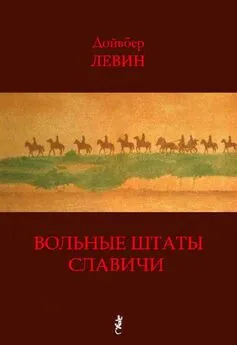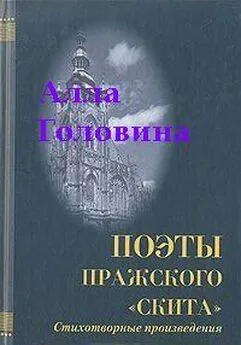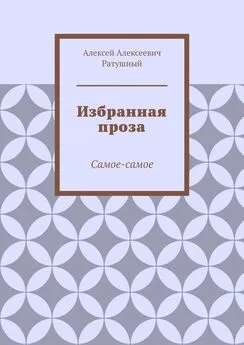Алла Головина - Избранная проза и переписка
- Название:Избранная проза и переписка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Головина - Избранная проза и переписка краткое содержание
Проза Аллы Головиной - лирические новеллы и рассказы из жизни эмиграции. Для нее характерны сюжетная фрагментарность, внимание к психологической детали, драматизация эпизода, тяготение к сказовой форме изложения.
В основе данного собрания тексты из двух книг:
1. Алла Головина. Вилла «Надежда». Стихи. Рассказы. «Современник». 1992. С. 152-363.
2. Поэты пражского «Скита». Росток. М., 2007. С. 293-299, 362-393, 431-448.
Избранная проза и переписка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Мамы нет, — говорил Загжевский вежливо, — и брата моего нет. Я отпечатал для вас фотографии — вы заказывали 5-й барак, вокзал и ревизора с директором. С вас три кроны.
Я платила три кроны и подсаживалась к столу, чтобы понаблюдать, как коротает иногда Загжевский свои досуги. Он их коротал так: он смотрел холодными глазами на грязную руку какого-нибудь ребенка и говорил с легкой досадой:
— Напиши десять раз букву «щ», и что такое пушные звери? Моя мама тобой недовольна, я должен с тобой заниматься, вместо того чтобы читать то, что меня интересует.
— А что вас интересует? — спрашивала я.
— Я сейчас читаю английского писателя Уайльда, — отвечал Загжевский и добавлял нерешительно, видя мою улыбку: — И Блока.
— Вы любите стихи? — спрашивала я с надеждой.
И он безмятежно отвечал:
— Да, конечно, — и брался за книгу под названием «Родиноведение».
А дети вокруг нас вздыхали и сопели и писали букву «щ» таким странным способом, что страница становилась похожей на муравейник и казалась прямо шевелящейся.
Я помню, как одна девочка сообщила мне и Загжевскому, что она неохотно учит русский язык, потому что ее мать все равно служит в чешском министерстве. И когда была установлена должность ее матери в министерстве — уборщица, Загжевский вдруг произнес патриотическую речь, странно звучащую в его устах, привыкших к цитатам из английского писателя.
— Вы — будущие строители России, — сказал он скороговоркой. — Чехи тратят на вас деньги именно как на русскую молодежь. Ты выучила молитвы…
Скрипели перья. Со стены смотрела фотография Загжевского в возрасте шести лет, снятая в городе Вильно; Загжевский на ней был райски хорош, и руки его уже были безукоризненно чисты. Он небрежно держал свою маленькую руку на плече толстого и растрепанного младшего Загжевского, который сниматься, по-видимому, не хотел и с братом своим был в плохих отношениях.
Я оглядывала комнату, ласкала под столом собачонку Дика, недавно покусанную лагерным сторожевым псом Султаном, и мне не хотелось уходить. На подоконнике стояли флаконы с одеколоном, лежали батистовые платки, на кресле висел белый шелковый шарфик, и книга Оскара Уайльда «Дориан Грей» была заложена посредине пилочкой для ногтей Загжевского.
Я уходила вместе с детьми, мы шли по темной аллее и вели между собой простоватый разговор.
— Задается на макаронах, — говорил один из учеников приготовительного класса про Загжевского. — Индюк проклятый. Ему его мать сказала: «Угости их потом чаем», а он зажимается. Еще младший его брат лучше преподает. Я ему покажу… пушного зверя.
— А за что вы его не любите, детишки? — спрашивала я.
— Придирается, — вздыхала девочка. — Руки, говорит, мой! Голову, говорит, причесывай. Шарфик, говорит, не роняй с кресла. Здоровайся, говорит. Маме, говорит, пожалуюсь.
— А младший Загжевский — лучше, — хвалили дети хором. Младший дал нам на Пасху сырной пасхи. Младший сказал: «Раз вас моя мать мучит, то Христос воскресе». И катал на карусели. «Здорово, — спрашивает, — в классе шумите? Орите, — говорит, — сколько влезет — я сам шумлю. А у нас в старших классах ого-го какие преподаватели. Плакать можно день и ночь». А правда, что вы латынь учите?
— Учим, — отвечала я, уже скучая и забывая их после последнего слова, сказанного о Загжевском, смутно и недолго жалея их за несознательность, грубость и неполученный чай.
Персональские малыши были много чище, чем их сверстники в интернате. Они ходили в пестрых бантах, в туфельках, в вязаных кофточках, они имели мячи, кукольные коляски, пистолетики, резиновых собак. И уже с определенной жалостью на этот раз я вспоминаю нашего гимназического «младшего страдающего брата», воскресающего в моей памяти в полудлинных своих казенных штанах, в огромной фуражке и вечно простуженного. В руке у этого ребенка — просто рогатка, жует он промокашку, которой плюется в кого попало, руки у него, несмотря на советы Загжевского, не помыты, волосы у него не причесаны и не подстрижены. А что касается маленьких девочек, то, думаю, никакая куколка никакой бабочки не бывала так безобразна, как эти маленькие будущие славянские красавицы в синих, в дудку, шерстяных платьях, шнурованных ботинках, слишком широких на щиколотке, с просто бритыми головами. Мы не смотрели тогда на них — мы смотрели на Загжевского, мы, барышни, носили в своих длинных косах банты-пропеллеры из тафты, мы брезгливо отстранялись от жеваной промокашки и от протянутой к шарфику руки.
Чаще всего мы встречались с малютками в лазарете. Там они, между прочим, подавали старшим ученикам туфли, булки, никогда не плевались, и в больничной навязанной чистоте становились даже трогательными до какой-то степени.
Встречали мы их в церкви. И даже там они нарушали праздничный воскресный вид гимназии картиной своей покинутости, своими полудлинными штанами, своими вихрами и почти сиротской некрасивостью.
Но и у них были свои герои и героини. О каком-то таком Варфоломееве, носившем «серебряное платье» во время крестного хода, мне случайно рассказала одна бритая Таничка, жаловавшаяся, что это сказочное видение, Варфоломеев то есть, уезжает в Париж. Но для меня тогда вся эта толпа, слишком часто крестящаяся и кланяющаяся директору без толку, была совершенно однообразна, как деревня негров, продающая зубочистки на Колониальной выставке в Париже.
Изредка во время какой-нибудь длинной молитвы из этой «деревни» отделялся вдруг бледный ребенок, шагал в сторону и говорил громким шепотом своему старшему по бараку обыкновенно шестикласснику:
— Иван Петрович, разрешите выйти — у меня ботинок развязался, и живот болит, и Герасименко щиплется.
И он уходил сквозь складки юбок преподавательниц, натыкался на ящик со свечами, и там его брал за плечи продающий свечи Загжевский и досадливо выводил на паперть. Было слышно, как выведенный, свистя и ругаясь, бежит по аллее и кричит.
— А что сегодня на обед?
Это лазарет и церковь, это, так сказать, встречи случайные, искусственные, неизбежные, ненужные. Я ведь, повторяю, совсем не занималась маленькими детьми в гимназии, и если я порой натыкаюсь теперь на их неумытые лица в моих гимназических рассказах, то это лишь верная моя память.
Все та же верная моя память воспроизводит шестнадцатилетнюю гимназистку и бесчеловечного гимназиста на кропотливом фоне прошлого.
Но вот, безусловно, одна моя встреча с маленькими детьми — настоящая. Вероятно, в ней даже было два плана, как в любой моей встрече с самим Загжевским на какой-нибудь боковой дорожке лагеря. Эта встреча — пьеса Метерлинка «Синяя птица» в постановке преподавателя французского языка Каменева и его жены.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: