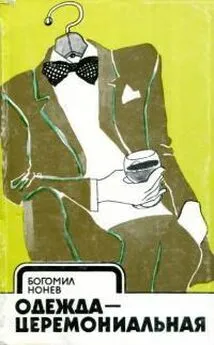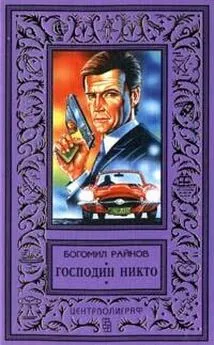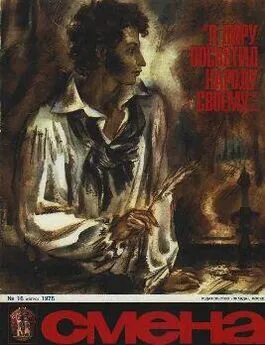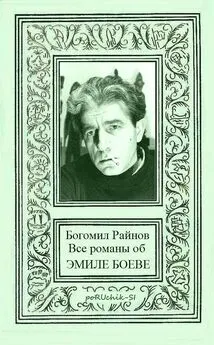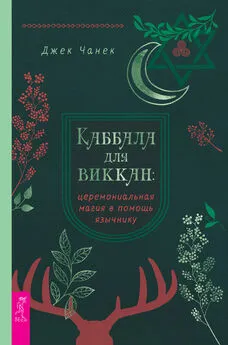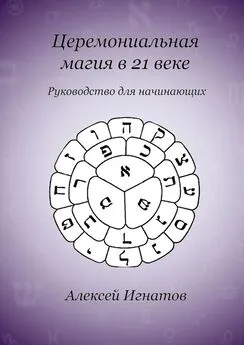Богомил Нонев - Одежда — церемониальная
- Название:Одежда — церемониальная
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:София пресс
- Год:1982
- Город:София
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Богомил Нонев - Одежда — церемониальная краткое содержание
Одежда — церемониальная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вот почему:
Изо всего, созданного человеком, утверждал он, нет ничего полезнее (он мог бы прибавить — и красивее), чем мост. Мост строят там, где встречается больше всего дорог и судеб. Мост не нужен тому, что кроется в тайне или погрязло во зле.
Большие каменные мосты, — будет часто повторять писатель, напоминая мне про Росенский каменный мост Каралийчева, — свидетели давнишних эпох, в которые жили другие люди, эти люди по-иному думали и иначе строили. Сейчас мы всматриваемся в трещины в старинных мостах, где растет трава и гнездятся птицы.
Эти старинные каменные мосты всегда приковывали к себе воображение и мысль Андрича. Они превращаются в могучую метафору, в символ, в надежду общения между людьми, в судьбу. Мост для писателя — привидение в ночи и крепость желаний, он связывает между собой людей и времена. Андрич в смятении и страхе остановится перед разрушенным мостом, ему кажется, что две руки в высшем напряжении сил тянутся вперед, чтобы найти друг друга, но не могут встретиться. Им не соединиться. Дух разрушения посягнул на самое человечное из всех творений человека.
Я читал Андрича, и передо мной был новый, незнакомый писатель, я видел человека с углубленным и сосредоточенным лицом, слышал его тихий и серьезный голос:
«Становится видно по мере того, как открывается перед нами жизнь, что мысли, усилия, улыбки, слова, вздохи — все стремится достичь другого берега, который стоит как цель и на котором они обретут свой подлинный смысл. Все в этом мире должно что-то превозмочь в себе или над чем-то перебросить мост: хаосом, смертью, бессилием. Потому что все — переход, все — мост, концы которого теряются в бесконечности. По сравнению с этим земные мосты — детские игрушки, бледные символы. И все наши надежды — на той стороне».
Я читал эти спокойные и мудрые строки и думал, что в нашей современной литературе, кажется, особенно горячо живет в последние годы лирически-философская проза. Я шел вслед за Андричем и его нравственно-человеческими темами: счастье и страдание, ласка огня и жизни, ледяное дыхание смерти, горячее веяние любви и живая человеческая доброта; всюду мы стоим перед мостами, которые должны пройти вместе с автором, чтобы понять его мир.
И в глубине всего лежит боль, один поэт назовет ее так: «мутная, как старая икона».
В Андриче видели творца, который принадлежит к опустошенному первой мировой войной поколению, а он распахнул широкие горизонты — исторические, нравственные, философские; они открывают нам доступ к другому берегу, к миру Андрича.
Марко Ристич был поэтом. Сюрреалистом. Другом Бретона, Элюара, Арагона. Потом он бросил манифесты и отдал себя политике, которая все больше увлекала его. Стал дипломатом. Все это было в годы, когда Андрич думал только о литературе. Именно Ристич уже давно сказал, что в творчестве Андрича есть спокойная — но не холодная или мертвая — красота, ей свойственны скрытые закономерности автономного художественного мира, он растет и разветвляется как коралловый риф, которому не страшны ни бури, ни волны времени. В то же время, говорил Ристич, вокруг него идут памфлетные битвы между представителями разных направлений.
Андрич обращается к прошлому, — это слова еще одного вдумчивого наблюдателя, — и погружается в него в водолазном костюме, чтобы ступить на почву современности.
В этой современности он чувствует человеческую боль. Писатель слышит ее в капле воды, в росте травинки, в отблеске кристалла, в каждом живом голосе, звучащем наяву и во сне. Он найдет ее в пьяном безумии пропащих босняков, в муках человеческой бедности, в тихой скорби, струящейся по переулкам тихих городишек, где по ночам слышно только монотонное журчанье горной речушки. И ему будет грустно и тоскливо, он почувствует замедленное биение сердца, сжимающегося от проклятой муки. Но он всегда будет стремиться к доброй красоте и чистому свету. Он будет вести рассказ медленно, иногда даже грузно. Сюжет и композиция его произведений неповоротливы, громоздки, подчас монотонны. Он будет стремиться к большим символам-метафорам, искать глубинный смысл таких образов, как старинные мосты, буйные реки, боснийские горы, и это не будет региональная литература, не будет и бытописание, потому что жизнь для него — всегда необъяснимое чудо, которое непрерывно разрушается и все же стоит на месте твердо и непоколебимо, как мост на Дрине.
Я продолжал думать об Андриче. Мы никогда не вели с ним долгих бесед, я даже чаще видел жену писателя — Любицу Бабич, художника Народного театра, чем его самого, но я никогда и не считал его словоохотливым, какими становятся все писатели и исторические личности в воспоминаниях тех, кто часто или редко с ними встречался.
Сейчас я думал о сложных дипломатических условиях, в которых работал Андрич в канун войны, о том, что дипломатическое поприще не сыграло с ним ни одной из своих жестоких шуток, примерами которых так богата история, и он сумел до конца остаться писателем. Я знаю, что в тяжелые годы войны он обрек себя на нищету, дожидаясь того времени, когда сможет писать, то есть собрать и выразить весь свой опыт, всю мудрость, все богатство чувств.
Иногда человек вспоминает своих знакомых и близких в силу довольно необычных обстоятельств.
Я стал думать о другом «дипломате» — человеке неукротимого любопытства, который больше всего на свете любил, во-первых, путешествовать, а во-вторых, посиживать в одних и тех же корчмах с одними и теми же друзьями.
Я думал о Светославе Минкове.
Он поехал в Японию в качестве «канцлера», то есть завхоза, и хотя в молодости изучал курс экономических наук в Мюнхене, из которого ничего не вышло, гроссбухи болгарского представительства требовали от него много сил; наверное, он был неважным кассиром и завхозом двухсот метров национальной территории в японской столице.
Он рассказывал мне, что любил убегать из канцелярии и бродить по антикварным магазинчикам, когда мог, он покупал рисунки на шелке, акварели на тонкой бумаге и изящный фарфор. Иногда заходил в чайные, а по вечерам заглядывал в бар «Империала», где обнаружил запасы старого французского вина. Изредка он проводил влажные и душные токийские вечера за покером с посланником Янко Пеевым и военным атташе Кирчевым. И все это время, тоскуя о погибшем брате, который написал музыку «Мертвых», тяжело переживая вести из Мадрида, который еще горел, он размышлял о тяжкой человеческой участи, о голоде и войне, о том, что должно сгореть в пламени и что — воскреснуть вместе с человеческими надеждами. При первой же возможности он поспешил вернуться на родину. Путь его лежал через советские среднеазиатские республики. В дороге он заболел и провел некоторое время в Советском Союзе. Тогда он увидел высшее напряжение всех сил, в котором жила Советская страна, в котором рождался новый мир. Через месяц или два он оказался в Стамбуле.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: