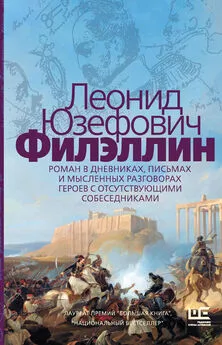Леонид Юзефович - Филэллин [litres]
- Название:Филэллин [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-132739-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Юзефович - Филэллин [litres] краткое содержание
“Филэллин – «любящий греков». В 20-х годах XIX века так стали называть тех, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с Османской империей или принимал в ней непосредственное участие. Филэллином, как отправившийся в Грецию и умерший там Байрон, считает себя главный герой романа, отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов. Это персонаж вымышленный. В отличие от моих документальных книг, здесь я дал волю воображению, но свои узоры расшивал по канве подлинных событий. Действие завязывается в Нижнетагильских заводах, продолжается в Екатеринбурге, Перми, Царском Селе, Таганроге, из России переносится в Навплион и Александрию, и завершается в Афинах, на Акрополе. Среди центральных героев романа – Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша, другие реальные фигуры, однако моя роль не сводилась к выбору цветов при их раскрашивании. Реконструкция прошлого не была моей целью. «Филэллин» – скорее вариации на исторические темы, чем традиционный исторический роман”. Леонид Юзефович
Филэллин [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разговор перешел на политику. Солировал Костандис, мы с Мосцепановым помалкивали. Бутылка вина пустела медленно. Никто из нас троих не был до него охотник.
В конце концов Крисе надоело, что не ее муж находится в центре внимания. Она подошла к нам и, указывая на него, но адресуясь ко мне, объявила что-то по-гречески.
“Говорит, я убил Ибрагим-пашу, – смущенно перевел Мосцепанов, – но это неправда. Я его только ранил”.
Он с мягким укором о чем-то сказал жене. Та энергично помотала головой и произнесла еще несколько фраз.
“Не знаю, как перевести, – замешкался Мосцепанов. – Говорит, я убил в нем мужчину. Он увидел наведенное ему в сердце ружье, от страха сердце у него сжалось – и уже не вернулось к прежним размерам. Навсегда осталось маленьким. С таким сердцем он побоялся продолжать войну. Засел в Триполисе, как мышь в норе, носу не высовывал, а потом убежал от французов в свой Египет”.
“Если отбросить свойственные народной поэзии гиперболы, всё так и есть, – заметил Костандис, и я наконец осознал, что безымянный филэллин, о котором Криднер говорил как о человеке, нарушившем предначертания судьбы, не кто иной, как Мосцепанов.
“Он жив?” – спросил я об Ибрагим-паше.
“Живехонек! – сказал Костандис. – Разругался с отцом, удалился в свои поместья и занялся сельским хозяйством. Выписал агрономов из Франции. На этом поприще, в отличие от военного, ему сопутствует удача”.
Я тоже улыбнулся. Апельсины, оливки, аспарагус, кофейное дерево. Тот, в ком баронесса Криднер опознала предреченного Исайей летучего дракона, стал мирным африканским помещиком. Буря улеглась, грозовой огонь проблистал и потух. Все обрели покой.
В этот момент из угла раздался звонкий детский голосок:
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна, но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок…
Одолев трудное для понимания место, чтица с облегчением вздохнула. На строке о ниспосланном вороне кусочке сыра голос у нее окреп, однако впереди ее ждало новое испытание в виде слова “взгромоздясь”. Впрочем, из него Эви тоже вышла с честью.
Вдохновленная героизмом отца, поощряемая его взглядом, запинаясь, но не отступая перед трудностями, она дочитала басню до конца. Все мы, включая тирольскую пастушку, внимали ей в благоговейном молчании. У Мосцепанова в такт ее декламации беззвучно шевелились губы. Ни одной подсказки я от него не услышал, но от месмерических сигналов, которые он посылал дочери, когда она сбивалась или забывала какое-то слово, трещал воздух.
Вернуться после этого к прежнему разговору уже не получалось, он начал перескакивать с темы на тему, не задерживаясь ни на одной. Все они казались мелкими по сравнению с тем, чему мы только что были свидетелями. Криса стала потихоньку убирать со стола посуду.
“Ну что? – обратился Мосцепанов к Костандису. – Покажем ему?”
Тот кивнул и встал. Оба выжидающе смотрели на меня.
Я насторожился: “Что вы хотите мне показать?”
“Пойдемте, увидите, – сказал Костандис. – Тут близко. Афины – маленький город”.
В самом деле, за полчаса мы прошли его насквозь и за последними домами вышли не к возделанным полям, как было бы за окраиной любой из европейских столиц, а к обширной пустоши с доходившей до верха сапожных голенищ серой осенней травой. Кое-где темнели островки будылья вокруг видневшихся тут и там отдельных камней и каменных гряд. Два-три чудом дотянувших до октября кузнечика обреченно пиликали на своих скрипочках.
Через четверть версты тропинка привела нас к маленькой церкви под замшелой, проломленной посередине крышей. Возле нее валялись мраморные обломки стоявшего тут когда-то языческого храма, из которых она частью и была построена. С одной стороны к ней примыкало небольшое кладбище, с другой – небольшая роща с поблекшей к октябрю листвой. Над ней поднимался аристократ здешних лесов – вечнозеленый лавр.
Церковь была открыта, священник готовился к вечерней службе. Мне захотелось ее осмотреть и, хотя мои спутники намеревались вести меня дальше, я настоял, чтобы они вошли со мной. Храм был неказист и снаружи, но внутри он поразил меня своей глубочайшей бедностью. В потолке зияли незаделанные дыры, по голым стенам змеились трещины. Расписанный в византийском духе иконостас не имел резьбы и позолоты, царский вход – дверей. Священник совершал таинства за ветхой завесой, над которой висело вырезанное из бумаги и пришпиленное к деревянному бруску распятие. Покалеченная капитель служила аналоем.
“Вижу, вы удивлены, – правильно истолковал Костандис мои чувства, – но в Греции нет церковной цензуры. Мы украшаем храмы так, как нам нравится, а наш вкус отличен от вашего. У вас ценится пышность, у нас – простота, вы любите золото, краски, лак, мы – полевые цветы и произведения древнего искусства. В глазах Бога бумажное распятие ничем не хуже серебряного. Для греков, по слову Евангелия, всё чисто, ибо нечистоту они не видят”.
Мосцепанов хитро улыбнулся, но смолчал. Радушным жестом хозяина он пригласил меня продолжить осмотр. Мы обошли церковь по периметру. На стенах не было никаких украшений, кроме полуувядших цветов и совершенно засохших цветочных венков, между ними белели бумажные листочки наподобие тетрадных, по две-три штуки в ряд прилепленные прямо к камням какой-то клейкой массой, которая остекленелыми потеками вылезала у них из-под углов. Все они были исписаны в той манере, в какой пишутся стихи.
“Духовные гимны?” – предположил я.
“Нет, – ответил Костандис. – Патриотические народные песни”.
Я попросил перевести какую-нибудь. Он выбрал самую короткую и, пояснив, что ее герой, гетерист Фармаки – историческое лицо, участник неудачного похода князя Ипсиланти из Одессы в Валахию, пересказал содержание: “Раненный в бою Фармаки захвачен турками в плен, увезен в Константинополь и там подвергнут мучительной казни на глазах русского, французского и английского послов. Истерзанный палачами, он воздевает глаза к небу, видит стайку ласточек и просит их, чтобы они полетели к его жене, рассказали ей, как мужественно принял он смерть”.
Голос у него пресекся. Неловко отвернувшись, чтобы скрыть блеснувшие в глазах слёзы, он быстро вышел наружу и направился в сторону кладбища. Мы с Мосцепановым пошли за ним. Солнце еще не село, но день ощутимо клонился к вечеру. Ни одного поспешающего на церковную службу прихожанина я не заметил.
Кладбище не было ни заброшенным, ни даже запущенным, оно было просто бедным. Место могильных крестов занимали камни, грубо обтесанные, а то и без следов обработки, или мраморные обломки, в изобилии разбросанные у церкви. Иные из надгробий не несли на себе надписей и знаков, но на большей их части с разной степенью тщательности были высечены кресты с именами покойных, иногда – лаконичные изречения из Библии, надо полагать, или Святых Отцов. Реже попадались детали геометрического орнамента и растительные узоры. Кое-где на могилах лежали букетики сухих цветов, стояли жестяные или деревянные иконки, но на той, к которой нас подвел Костандис, я увидел лишь вросшую в землю массивную глыбу серого гнейса. Резец каменотеса коснулся ее только с парадной стороны, той, где на отнюдь не идеально гладкой вертикальной поверхности по-гречески выбито было одно имя, без фамилии и без каких-либо сведений о том, чем занимался этот человек до того, как оказался здесь:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Леонид Юзефович - Филэллин [litres]](/books/1061100/leonid-yuzefovich-filellin-litres.webp)