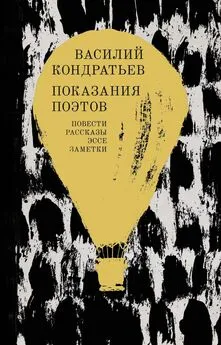Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]
- Название:Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813508
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] краткое содержание
Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В своём эссе «Растерянные взгляды» Брюно Кани признаётся: «…родившийся в 1956 году, на излёте революционного гуманизма, я прожил все эти годы так называемого заката великих повествований, чтобы прийти в 90‐е годы счастливым несчастливцем, развившимся в двойственную эпоху постмодернизма». Сегодня, считает поэт, когда мы оказались на руинах опустошённой «по man’s land», на краю бездны, в которую вело прежнее понимание Истории новым поколениям, – и новой «современности», как бы её ни называли, – остаётся воссоздать или переплавлять окружающее: собственно говоря, сама современность сегодня ещё на подходе. Мы ещё не знаем, какова она, потому что её особенности проявятся намного позже. Хотя понятно уже то, что не правы отвергающие само понятие «современности» из‐за отсутствия очевидной новизны: Троянской войны не будет, новизна больше не является коньком переживаемой современности, выдвигающей не какие-то очередные перспективы, а скорее поиск реальной перспективы. И прошлое, и всё ещё гипотетическое и субъективное настоящее, и в конечном счёте сам человек, лишившийся божественной или общественной предопределённости, должны быть изобретены заново. Для этого придётся изобретать новые средства и, хотя на всё тех же руинах, новые территории: необходимое для этого воображение будет как никогда разнородным и отнюдь не новым. Что же касается роли поэзии, она может быть преобладающей, поскольку «…сама область преображения, поэзия предохраняет от заблуждения всех ищущих иных путей».
Первоочередная задача предстоящей работы, полагает Ив Ди Манно, в том, чтобы «вписать Поэму в черту Города, т. е. пересмотреть всё под общим, а не индивидуалистическим углом зрения, учитывая метрический распад и разложение обществ, характеризующие минувшие полвека». Конечно же, именно в самой «частной» речи следует искать наиболее общий для всех язык, и главное – это переосмыслить акт, лишившийся значимости: задаться вопросом, насколько сегодня так называемая поэзия по сути участвует в той «активной критике действительности», без которой, по убеждению Ди Манно, «бессмысленно тревожить великолепную тень стиха», насколько она выслеживает мутацию и беспорядочность этой действительности. В конце концов, напоминает Ди Манно, именно непокорности поколений 1870‐х и 1920‐х годов, их отвращению к разлагающемуся обществу мы обязаны сутью тех формальных перемен, воспреемниками которых являемся. Несмотря на свою усиливающуюся маргинализацию (а может быть, и благодаря ей), поэзия должна оставаться «на сходе путей», в эпицентре бури, чтобы быть необходимой в обществе, даже не подозревающем о ней, лишённом своего более «высокого» языка и поэтому обречённом на угасание. Однако каждый, пишет Ив Ди Манно, может по-своему «хранить уголья под холодным пеплом современного пепелища».
Существует, уточняет Паскаль Буланже, потребность быть осведомлённым: в новых конфликтах, коммуникациях, в новых особенностях репрессивного механизма и манипулирования информацией, наконец, о своём собственном статусе – и эта потребность скажется как на выборе чтения, так и на самой форме записи. В общем, это коснётся и сторонников «мифа о непорочном зачатии», полагающих, что произведение ничем не обязано состоянию общества. «Наконец, – пишет Буланже, – в отличие от всех тех, кто утверждает, что мы движемся к планетной демократии, я убеждён, что История продолжается». Минувшие годы, продолжает он, отмечены духом реставрации и идеологической путаницей. Разумеется, понятия модернизма, постмодернизма, новой современности могут служить началом определённого спора. Однако Буланже острее ощущает «миметическую традицию литературы, воссоздающую реалии, обнажающую индивидуальные и коллективные крушения. Я предпочитаю Икара, павшего перед лицом реальности, ангельскому или морочащему романтизму. Предпочитаю тексты, не поддающиеся классификации, „нечистые“ записи: „Крестовый поход детей“ Мориса Швоба, „Большая свобода“ Жюльена Грака, „Патерсон“ Уильяма Карлоса Уильямса… Поэзия, проза? В поэзии меня интересует идея фрагмента, избегающего „здравого смысла“, болтовни и психологии».
Итак, призывает Буланже, учтём исторические и социальные перспективы, осведомимся о фактах, о цифрах, о всех изгибах, заглянем за кулисы. Раскроем недосказанное, обманы и потери. Будем писать о зверстве эпохи, отвергнув всеобщую амнезию и высокомерие «целителей». Восстанем против иллюзионизма и сомнамбулизма: читая, записывая. Я люблю слово «реальный», пишет Буланже; однако он возражает против подчинения письма реальности. Письмо не отражение, не зеркало реальности, и существует искусство сочинения с его особенностями. «Однако меня не трогают тексты тех, кто отстаивает автономию языка, искусство для искусства в его текущей формалистической разновидности… Современность 60–70‐х, синоним критики, превративший письмо в фетиш, безусловно, была Реформой. И пусть не удивляются, если сегодня иные напускают на себя невинный вид, стремясь к решительной контрреформации».
Эманюэль Окар опасается, что общий разговор о «современности» и «поколениях» может легко вылиться в своего рода авангардистскую ностальгию, в бесплодное противопоставление древних и современников. Не оказаться заранее ни в этой ловушке, ни в капкане того «согласия», которое сегодня предлагают иные «добряки» – вот что, по его мнению, наиболее современно. «Я уже неоднократно высказывал, что, по-моему, означает этот термин: интеллектуальная и, скажем так, эстетическая (или этическая) решимость поставить под вопрос некие правила игры и некие ставки письма». Окар вспоминает фразу Оливье Кадио, что «утомляет не возвращение классиков, а современники, общими усилиями вырабатывающие очередную маразматическую литературу». Он приводит слова Витгенштейна о том, что из языка время от времени стоило бы изымать некоторые выражения, потом возвращая их в оборот «очищенными», и размышляет: «Сегодня, возможно, следовало бы избавиться от слова „поэзия“, т. е. делать иначе. Не считать поэзию – и не делать её – жанром, наподобие романа, эссе, драматургии и т. д. Поэзия не в большей степени жанр, чем проза, с которой у неё общего больше, чем кажется. Как и все, я понимаю отличие стиха от фразы… Это понимание может навести на некоторые изобретения. Например, скрывать, стирать грань между стихами и прозой… Проза мне необходима, чтобы не терять под ногами землю. Стих для меня – всего лишь возможность игры с прозой, с синтаксисом и со словами прозы, с содержащимися в ней возможными интонациями, которые выявляются и подаются только в стихе. Что касается меня, я предпочёл бы обсудить какую-нибудь конкретную технику письма: технику, применимую не только в поэзии, но – почему бы и нет? – повсеместно».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/1066970/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass.webp)
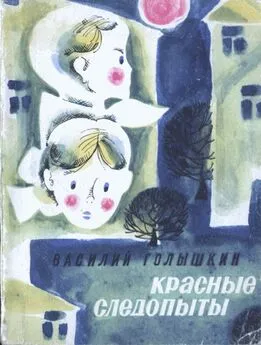
![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/384007/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy.webp)

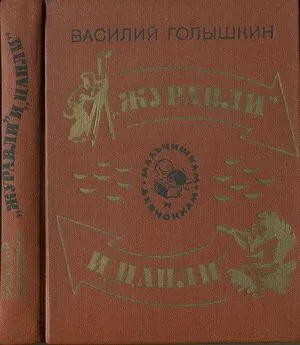
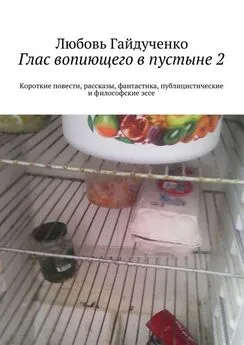
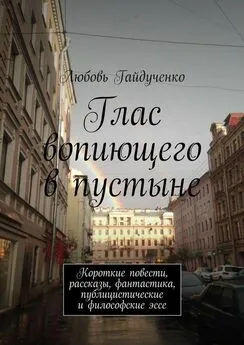
![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/1066475/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/1085266/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest.webp)