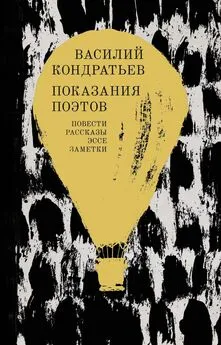Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]
- Название:Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813508
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] краткое содержание
Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тогда я могу разложить перед собой карты. Я имею в виду колоду из двадцати пяти карт, которую я сочинил по образцу различных игральных или предсказательных карт (карты вообще представляют собою одну из главных страстей моей жизни), специально для того, чтобы рассказывать по ней истории. Я когда-то много занимался историей и спецификой карт таро, которые отличаются большим разнообразием и могут быть совершенно особенной разновидностью искусства, как это показывают, например, те замечательные карты, которые Игорь Макаревич и Елена Елагина создали около трёх лет тому назад для проекта XL Галереи «Esotericum». В отличие от этих художников, меня ещё интересовали те сугубо литературные возможности карт, которые использовал Итало Кальвино, чтобы написать «Замок скрещённых судеб» – один из его лучших романов, созданный с помощью двух знаменитых старинных колод таротных карт. Меня, впрочем, совершенно не привлекали готовые традиционные виды карточных колод, тем более что поневоле связанный с ними аромат цыганщины или домашнего оккультизма мне лично может быть приятным, но мешает работать. К тому же, меня главным образом привлекала идея поработать над созданием самого карточного организма (в этом смысле мой интерес к картам совпадает скорее с художественными устремлениями таких участников Флюксуса , как, в первую очередь, Джордж Брехт). В общем, это дело было сделано. Значит, я раскладываю карты большим квадратом, в пять рядов по пять карт в каждом. В колоде, которую я сочинил для «Путешествия нигилиста», существуют карты двух видов. Во-первых, это фигурные карты , которые представляют собою пятнадцать карт с изображениями различных фигур, между которыми выстраиваются истории. Это именно фигуры, поскольку пока что я не могу иметь никакого представления, кого или что они могут обозначать в такой истории. Например, карта с изображением старика может оказаться обозначением какого-нибудь важного действующего лица или, наоборот, случайного прохожего; но она с таким же успехом может обозначать памятник, притулившийся на бульваре, фото на рекламном щите или забегаловку под названием «Дед Мазай»; вместе с тем эта карта может обозначать какой-нибудь перелом в делах главного героя, потому что изображение старика представляет собою аллегорию слабости и одиночества человеческой души; и так далее. Следует заметить, что одна из этих 15 карт стоит отдельно и представляет собою фигуру рассказчика, но в этом тоже нет ничего особенного, потому что рассказчик совершенно не обязательно станет главным героем истории; к тому же ещё не совсем понятно, будет ли это рассказ от лица женщины или от лица мужчины, смотря как выпадет эта карта. В колоде, во-вторых, существуют числовые карты , пронумерованные от 1 до 10. Я предусмотрел эти карты для обозначения таких важных, но совершенно беспредметных моментов жизни, когда можно сказать только, например, что во время разговора по двору бегало пять кошек или что всё дело заключалось в восьми шарах, оставшихся на бильярдном столе… Итак, я располагаю эти 25 карт квадратом. Мне это необходимо, чтобы запомнить тот порядок, в котором они составили этот квадрат. Я могу отложить эти карты, чтобы заняться главным – то есть изучением местности, которую я вижу внизу и где так или иначе происходят истории, которые мне предстоит рассказать.
Теперь я могу описать приспособление, которое играет важную роль в «Путешествии нигилиста». Это окошко – то есть простейшее устройство для определения перспективы, которое в старину очень широко применялось рисовальщиками. В любом учебнике рисунка можно отыскать фотографии со знаменитых рисунков Дюрера, изображающих этот аппарат, и, вероятно, найти цитату из Леонардо, который даёт его подробное описание и рекомендует использовать при рисовании с натуры. Это пустая рамка, окошко которой расчерчивается на квадраты (по стеклу или протягиваются нитки), и с ней рядом крепится прицел , помогающий фиксировать точку зрения. С помощью такого окошка очень легко по квадратикам перенести на бумагу любой пейзаж и вообще любую вещь в перспективе.
Я помню, что это место у Леонардо, где говорится об использовании перспективного окошка , производит необыкновенное впечатление своей скрупулёзностью и высоким пафосом прозы, как будто он даёт описание магической церемонии, хотя речь вроде бы идёт о простом деле 76. Всё это звучит очень громко для немудрёного пособия, которое очень скоро может заменить тренированный глаз. Однако следует учесть, что дело всё-таки относится к XV веку, когда такой оптический факт, как перспектива, мог лежать в основе целой философии (в XX веке это относится к двум главным работам Марселя Дюшана: «Новобрачная…» и «Дано». 1. «Водопад». 2. «Осветительный газ»). В этом смысле работа с перспективным окошком, даже если в нём нет видимой необходимости, действительно может иметь значение некоторого ритуала.
Теперь можно ощутить, почему следующим автором, который обратился к описанию перспективного окошка после Леонардо и Дюрера, был знаменитый мистик и энциклопедист XVII века о. Афанасий Кирхер. В этой работе Кирхер сразу же указывает, как используется мезоптический инструмент : кроме того что с его помощью следует «располагать в перспективе любой предмет и любое тело», он оказывается полезен и для того, чтобы размечать циферблаты солнечных часов . Более того. Рассуждая о перспективном окошке , Кирхер изучает не то, как рисовать, соблюдая перспективу, в которой могут быть видны вещи, – а то, как можно располагать вещи в той перспективе, которую он разделяет на естественную и искусственную . Это устройство интересует его как инструмент, применяющийся при различных ландшафтных работах. В первую очередь при строительстве и при разбивке садов, и здесь мысли Кирхера приобретают грандиозный магический размах. Во многом повторяя градостроительные идеи таких перспективистов, как Альберти и Леонардо, он утрирует их, когда пишет о божественных фигурах (скажем так, своего рода талисманах), которые могут лежать в основе местности, организованной и застроенной с помощью человеческого искусства: с помощью окошка он рисует целые воображаемые города и горные массивы. В XVII веке, однако, эти фантазии имели серьёзные и наглядные основания. Я имею в виду, с одной стороны, тот вид, который великий механик и декоратор Саломон де Кос придал княжеским садам и дворцовым покоям Фридриха V Виттельсбаха в Гейдельберге. С другой стороны, это учёные труды и живописные работы такого же замечательного французского художника и геометра Нисерона, посвящённые странностям перспективы . Как Нисерон, так и де Кос были основными авторитетами своего времени в области того анаморфического искусства (то есть, грубо говоря, такого умения находить или создавать одну жизнь, спрятанную в другой, которое можно наблюдать, когда, например, из одного конца зала его стенная роспись кажется тебе изображением лесной панорамы, однако, когда ты проходишь в другой конец этого зала, ты вместо этого видишь на стене громадную распростёртую фигуру), отдельные приёмы которого используются сегодня в монументальной скульптуре и живописи 77. Я столько распространяюсь по этому поводу, чтобы показать, как такая на первый взгляд отвлечённая или сугубо прикладная вещь, как перспектива, может служить основой подхода к реальности и такого стремления искать в ней возможности выхода, которое, в общем, лежит в основе любого серьёзного искусства. В конце концов, утопические фантазии Кирхера становятся особенно интересными, когда знаешь, какое значение имели странности перспективы для такого основоположника современного концептуального искусства, как Дюшан.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/1066970/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass.webp)
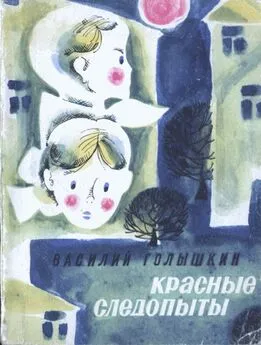
![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/384007/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy.webp)

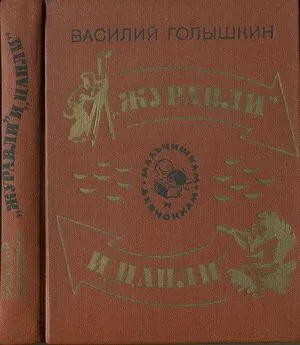
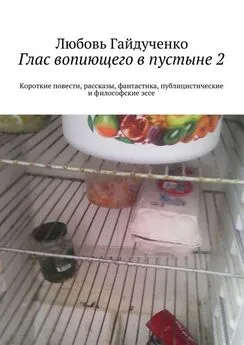
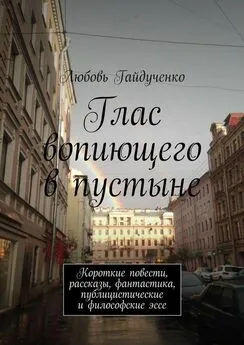
![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/1066475/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/1085266/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest.webp)