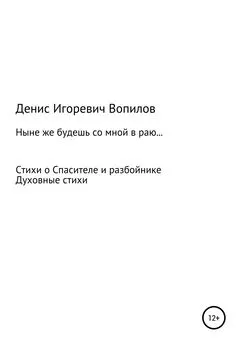Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Название:А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк краткое содержание
Во втором романе, «Пророк», рассказывается о нелегком «врастании» в городскую среду выходцев из деревни.
А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я поддакивал, ласкал Марийку, ждал. Теперь уже мне было не к спеху, ничто меня не подгоняло, не подстегивало. Я отправлялся в город, приносил ей оттуда цветы — не наши, не тепличные, мелкие подарочки, можно сказать, мышиные, зато купленные на заработанные деньги, нелегко доставшиеся. Еще я выезжал за город с Юзеком. По рощам бродил, по пригоркам, затянутым мелкой сеткой дождя. К деревьям прижимался щекой, у каждого в отдельности спрашивал согласия на женитьбу, на свадьбу. Некоторые из них, в особенности березы и тополя, были на ощупь гладкие, напоминали Марийкину кожу, хотя чаще кухарочкину. Людей там не было, если не считать какого-то мужика, который перекапывал мотыгой картофельное поле, словно хотел на нем отыскать упавшие планеты, иные миры, да старухи, серпом срезающей кукурузу, да лошади, выпряженной из телеги, отпущенной на стерню, так что я все вслух сам с собой обсуждал, советовался, иногда переводил на денежки. «Женюсь, женюсь, пожалуй, женюсь», — напевал я себе после такой прогулки, волоча к машине для Юзека мокрую ветку терновника, боярышника.
Однажды, когда мы с Юзеком ехали по улице, вдоль городского луга, я увидел, что по каштановой аллейке тащится шагом на лошади мой новый знакомец. В бурке, накинутой на плечи, сколотой у ворота серебряной английской булавкой, в шапке-ушанке, в высоких сапогах со шпорами, подскакивая в седле, направлялся в центр. Я велел Юзеку остановиться, подождать меня на стоянке, а сам, в пальто с отложным воротником, застегнутом на все пуговицы, потому что похолодало и моросил дождик, преградил дорогу кавалеристу, улану несвоевременному, наверняка с народной войны возвращающемуся.
— Вы что, голубчик, я на родину, в Польшу, нас великие народные дела ждут, а вы меня задерживаете. Неужто сами не видите, не чувствуете?
Раз такое дело, я пропустил кавалериста, освободил ему путь, остановился на минуту возле дерева, чтобы поглядеть, как зажигается зеленый свет при звуках конского ржания, как их пропускают через перекресток, как они исчезают, растворяются в улочке, ведущей на рыночную площадь, в центр, где, должно быть, собралась тьма народу послушать коня и бормочущего будто сквозь сон всадника.
Озябнув, я забежал на секунду в ближайшую гостиницу. Кофе с коньячком залпом выпил, покрутился с одну-две молитвы в вестибюле, перед входом, высматривая какого-нибудь иностранца, чтобы купить у него немного долларов, в сундучок тайком от Марийки спрятать. Но что-то охотников торговать валютой не подворачивалось, поэтому, подняв воротник, натянув на уши шапку, я поспешил к ожидающему неподалеку Юзеку. Какая-то женщина, закутанная в полушалок, кричащая: «Ендрусь, Ендрусь, сыночек», — смутно маячила за пеленой дождя, словно за суровыми нитками, натянутыми на невидимые кроены. В длинной, до щиколоток, юбке, в полушубке, расшитом мальвами, пропахшем нафталином, семенила в мою сторону, подымая над головой обе руки с ивовыми корзинками.
— Мама, — вырвалось у меня жалобно. — Мама.
И вот я уже утонул в полушалке, в полушубке, в корзинках, из которых сыпались в лужи на мостовой яйца, шмякнулся подсушенный сыр, летели, подскакивая, подгнившие яблоки, видно, вынутые из сена. Тепло у меня стало на сердце, душа оттаяла. Я убаюкивал мать в объятиях, как в давно позабытой зыбке, выстланной сеном, где в изголовье сидит кошка, а в ногах копошатся котята. Убаюкивал худенькую мою маму, чудом занесенную в город ожившую охапку терновых веток, перевязанных лыком. Приподняв, стал кружить, пока не заметил, что на нас пялятся из подъезда, из окон гостиницы, с тротуаров, смеются, хихикают. Я поставил мать на землю, снова обхватил руками, прижал к груди и на всякий случай закрыл глаза, застыл, как в былые времена в поле, на тропке за домом, в горнице в те минуты, когда отца не было дома, когда он уезжал на ярмарку, на сгонку скота.
Однако людей, окруживших нас со всех сторон, точно во время облавы на кабана, на лисицу, сквозь опущенные веки не переставал видеть. Выпутавшись из материных объятий, из корзинок, из полушалка, схватил ее за руку, потащил в сторону луга, приговаривая: «Идем. Там ты посидишь, отдохнешь, там никого нет, там тихо». Шагал торопливо, что-то бормоча, по аллейке, по которой недавно проехал на коне мой знакомец, высматривая скамейку посуше где-нибудь под каштаном. Наконец такая нашлась. Я расстелил газету, носовой платок, силком усадил мать, стоящую передо мной, цепляющуюся за пуговицы, за мои «рембрандты», заглядывающую по-птичьи, склонив набок голову, в глаза, поглаживающую рукав пальто, расправляющую послюнявленным пальцем, изъеденным травами, лебедой, крапивой, мои брови, невидимые еще морщинки.
— Нашла, наконец-то я тебя нашла, мое дитятко. А сколько искала, выглядывала, сколько исходила вокзалов, костелов, сколько молитв прочитала, слез по ночам пролила, сколько перебрала четок, перепела литаний, сыночек мой. Потому что там, в деревне, тебя уже зачислили в покойники, в шахте под углем погребли, под колесами машины угробили. И в тюрьму тебя отправили по этапу, большой срок дали, чуть ли не петлю на шею набросили. Ты ведь, едва рассвело, убежал, из дома выскользнул. Даже мне не сказался, словечком не обмолвился.
— Из-за отца, мама, из-за отца. Он бы меня убил, постромкой, выдернутой из хомута, засек насмерть.
— Бедненький он, твой отец. Тихий сделался, как мышка, попискивающая в норке, плачущая по углам. Когда я не гляжу, костюмы твои старые пальцами гладит, к косе твоей детям не дает притронуться, фруктовые деревца, несколько лет назад тобой посаженные, вторую уже зиму хохолами укрывает. Бедняжечка такой, грач пришибленный, целые дни просиживает у окна, глядит на дорогу. Ничего не говорит, ждет однако. Ждет, Ендрусь, по ночам выходит в сад, к калитке, едва залает собака, замяучит кошка, заухает на клене филин.
— Я его знаю, мама. С дубинкой небось, с вырванной из плетня жердью ждет.
— Какое там, ему теперь не до жерди. Меня пальцем не тронул с тех пор, как ты уехал. Знай, ходит вокруг на своих кривых ногах, во всем угодить старается. То яблочко, то сливу из сада принесет, оботрет рукавом, подаст с улыбкой. Вернулся бы ты, Ендрусь, вернулся бы, дитятко. Истает твой отец, как громница в грозу, зачахнет совсем. И я изведусь, истерзаюсь, ты меня живой не застанешь.
— Не могу я, мама. Не могу. Женюсь вот, разбогатею, тогда, может быть, приеду, загляну домой.
— Работа-то у тебя есть или учишься где?
— Есть, мама, есть. Все у меня есть. Ни в чем не нуждаюсь. А может, ты голодна? Наверняка голодна. Погоди, я мигом слетаю, принесу что-нибудь поесть.
Я заскочил в ближайшую лавчонку, купил пшеничную ярмарочную булку, плитку шоколада, конфет целый кулек. Высыпал все матери в подол. Она размяла, раскрошила в пальцах булочку, конфеты стала разворачивать и снова заворачивать, шоколад разломила и кусочек сунула мне в рот. Платочком утерла вспотевшее лицо, уголком смахнула слезу. Молчала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
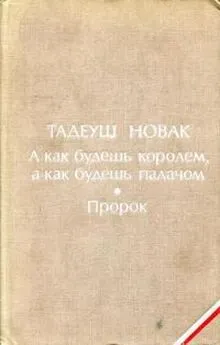



![Марина Весенняя - Дикая. Будешь моей женой! [litres]](/books/1077956/marina-vesennyaya-dikaya-budesh-moej-zhenoj-litres.webp)