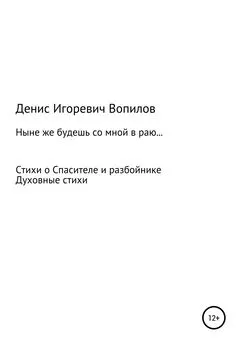Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Название:А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк краткое содержание
Во втором романе, «Пророк», рассказывается о нелегком «врастании» в городскую среду выходцев из деревни.
А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так мне докучал Франусь и час, и два; наконец я делал вид, что просыпаюсь. Открыв глаза, слезал с качалки, подходил к сундучку, где держал свои вещи, и вынимал писчую бумагу. Приносил из шкафчика одеколон, развернув на столе листок, разглаживал аккуратно, брызгал одеколоном, брал перо и прикидывался, будто начинаю писать. Франусь останавливался у меня за спиной, дрожа всем телом, покрякивая от волнения, от нетерпения. Тогда я откладывал перо, складывал вчетверо бумагу и говорил ему:
— Диктуй. Выплюнь из себя все гадости, высморкай нежности. А я запишу, все запишу, до единого слова, как будто грехи перед святой исповедью, как если бы писал завещание. Пусть увидит твоя красавица, каков ты есть, мурло, червь навозный, пусть читает дни и ночи напролет, пусть полежит на твоем письме в саду под деревьями. Не трусь, не скули у меня над ухом, как пес в капкане, хорек в ящике, утыканном гвоздями, лиса в проволочной петле, — диктуй лучше. Она не обидится, не помрет, даже не сомлеет и не вскрикнет, как будто ночью ее настиг оборотень и стал, прокусив шею, высасывать зазывную девичью кровь. Она не лучше тебя, такая же похотливая, так же потом исходит от ласк, забывает о воскресных, прихваченных на сеновал варениках.
Франусь бросался на меня с кулаками, бил куда ни попадя, дергал за волосы.
— Ах, ты, сукин сын, — приговаривал, — паныч гладкий, заморыш, городская гнида, позабывшая, что сидишь на мужицкой башке, пьешь мужицкую кровушку. Изувечу, убью, морду кулаками расквашу так, что ни родная мать, ни Матильда твоя тебя не узнает, если не напишешь письма. Ты у меня его выплюнешь, отхаркнешь, не сходя с места, вместе со всеми зубами, с кровью, которую я выпущу из тебя по капле.
А когда я отстранял его своею лапой, когда подымался из-за стола, он подходил ко мне то слева, то справа на полусогнутых, а бывало, что и на локтях подползал, подбирался поближе к ногам, в замшевые штиблеты обутым, норовя их обнять, обцеловать, задобрить. Я гладил его кудлатую башку, колючие вихры, вытирал рукавом глаза, гноящиеся от слез и от водки, усаживал возле себя и снова делал вид, что собираюсь писать. А потом говорил, откладывая ручку:
— Слушай, Франусь, давай поиграем. Ничего возвышенного мне в голову не приходит. Давай, поиграем, что ли? Может, после игры слова обозначатся яснее, осветятся изнутри, обомнутся, засахарятся — мне же надо, чтоб они аккуратные, напевные, всевидящие, всеговорящие были. Ты здесь такого наплел, столько гадостей наговорил за вечер, что они и меня обморочили и против воли на бумагу лезут. Набиваются в каждую строчку. Воняют, расползаются, как гниль, как навоз, как тухлая селедка. Давай сначала поиграем, а потом возьмемся за письмо, чистые, как если бы выкупались в речке, пробежались под грозой, приняли причастие.
— Ни за что на свете я с тобой не буду играть. Ни за что на свете. Болвана ты из меня строишь, недотепу, дурачка, который знай себе глядит на колья в плетне — не зацветут ли, не пустят ли зеленые побеги.
— Как хочешь, голубок, как хочешь. Не будет игры, и письма не будет. И Тоська не приедет. А у ней там доллары сундук распирают, на деревьях вместо листьев высыпают по весне. И кольца золотые позванивают на всех пальцах, и недавно прикупленная землица обращается в прах от тоски по бороне, по плугу, по подошвам твоих ног, на нее не ступивших. Подумай только: лежишь ты себе в осеннем саду, клонящемся долу от яблок, полеживаешь в свое удовольствие, яблочки на тебя падают, медовые груши сыплются, а ты р-раз! — и то лапой по кольцам, по долларам, а то по Тоськиному гладкому телу, на первый зов откликающемуся, затейливому-презатейливому: хоть оно у нее хрупкое, фарфоровое, а все на месте, все как положено. Лежишь себе, любезное тело поглаживаешь, ласкаешь как бы нехотя, а в поле за тебя другие работают, другие и луг косят, зерно в амбар свозят, молотят, ссыпают в закрома, везут на мельницу, ватрушки пекут, в сад в корзинке приносят, чтобы ты от них по кусочку отщипывал, подносил ко рту двумя пальцами.
Я кидал на стол перо, завинчивал чернильницу, складывал бумагу, чтобы спрятать ее обратно в сундучок. Тогда Франусь, сорвав со стены саблю, бросался на меня, привстав на цыпочки, и я видел: сейчас он рассечет меня надвое, снесет напрочь мою горячую от раздумыванья, от мечтаний, от отливающих золотом волос голову. Я бил наотмашь по его загорелой морде, пинал ногой в пах, и он падал на ковер, скрючившись от боли. Я вынимал из глиняной вазы астры, привядшие розы и выливал на его дымящуюся от мыслей о Тоське, от водки и пива башку застоялую воду, пахнущую осенней сонливостью, тленьем, гниеньем. Он вставал с пола, отряхивался, как дворняга, обмывал голову под краном, вытирал рубашкой, плюхался тяжело на кушетку, сплевывал и, уткнувшись лбом в колени, шипел сквозь зубы:
— Ладно, черт с тобою. Начинай, сволочь.
— Звать-то как парня? — спрашивал я.
— Франусь, благодетель.
— А где он родился?
— Где ж ему родиться, паныч, как не в хате.
— Смерд, холоп, значит. Зверь, хоть и с человеком схожий?
— Конечное дело, паныч. Душонка-то в нем никакая: мякинная, серая от навоза.
— Так его и убить не грех, пристрелить, как бездомного пса, не зазорно?
— Стреляли уже в меня, из двустволок палили, будто в дикого зверя. Однако увернулся, в чащобе следы запутал.
— А кого он превыше всех чтит, кого прославляет?
— Вестимо, Ендруся, всем панам пана; его одного чтит душой и сердцем, его уваженьем дарит, ему служит верой и правдой.
— А в кого Франусь верит?
— В единого бога и в рай небесный, а еще в Ендруся, который ему предводитель промеж язычников и промеж кметов. В такую он, Франусь бедный, троицу верит.
— А родина у него есть, отчизна?
— Откуда взяться отчизне, коли он о ней и не слышал. Значит, покудова нету. Земли у него нет, понимаешь, какая уж тут отчизна.
— А если была б землица?
— Все равно он бы славил и чтил душою и сердцем паныча Ендруся, который для него и отчизна, и все остальное всегда и вовеки, аминь, на земле и в небе.
— Молодец твой Франусь, скажи ему, пусть придет, поцелует руку.
И Франусь бухался на колени, заползал под стол, лаял, скулил, блеял, чирикал. А когда целовал мои руки, урчал от счастья, пускал слюну, задирал то правую, то левую ногу, как будто на радостях поливал каждый кустик чертополоха, куст смородины, яблоневый черенок в пору цветенья, желтый цветок осота. Я гладил его по голове, успокаивал, совал в зубы ломтик грудинки, подавал кусочек хлеба с сахаром. И в конце концов сажал от себя подальше, чтобы не слышать, как он смердит, как портит воздух зловонной отрыжкой чесноком да луком, чтобы не расцарапывал меня в кровь своими когтями. Усаживал на пол, рюмочку подносил, угощал сигаретой, милостиво разрешал закурить, глядеть мне в глаза умильно. А когда он насмотрелся всласть, натешился моим видом, моей добротою, когда помолился мне, словно ожившему, сошедшему с иконы святому, я снова обратился к нему с такими словами:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
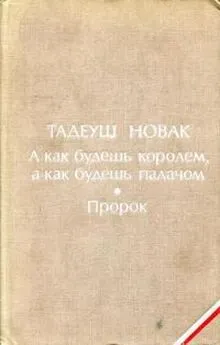



![Марина Весенняя - Дикая. Будешь моей женой! [litres]](/books/1077956/marina-vesennyaya-dikaya-budesh-moej-zhenoj-litres.webp)