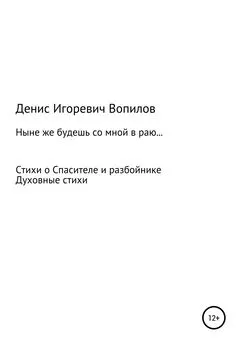Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Название:А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк краткое содержание
Во втором романе, «Пророк», рассказывается о нелегком «врастании» в городскую среду выходцев из деревни.
А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все равно, думал я, сейчас он встанет из-за стола, бросится на пол, обнимет его руками, вонзит в доски, поскольку нет рядом поля, ногти, вцепится толстыми пальцами и задрожит в соитии, как бывало когда-то в начале осени, когда мы пасли коров, запускали змеев и, насадив на соломинки, подбрасывали жужжащих слепней в густой от паутины воздух. Рожать, плодить неустанно хотелось этому норовистому бычку, кровь в нем скисала, застаивалась от безделья, семя бросалось в мозг, мутило мужицкий рассудок. Погонять бы его, что ли, как жеребчика на веревке, взад-вперед, разогреть до седьмого поту, чтобы только пофыркивал, может, успокоился бы тогда, сел в уголке, уронил промеж колен голову, хоть на минутку задумался.
Бывали дни, когда в нашей комнате вместо каждодневности холопьей появлялась вдовушкина усадьба, утопающая в плакучих ивах, в березах, осветляющих воздух, в чертополохе, серая от мужиков в косоворотках, со смаком пропускающих между пальцев босых ног рыхлую землю, шмыгающих носом, лузгающих подсолнухи, тыквенные семечки, сплевывающих вместе с шелухой горечь крапивных щей, испеченной из смолотой коры лепешки. Захмелевший Франусь, пошатываясь, подходил к стене, снимал уланскую саблю с кистями, проводил по острию большим пальцем, проверял, наточена ли, и с колена, с полуприсяди, со всего роста, приподнявшись на стременах, рубил сплеча, сражался за эту усадьбу, с конницей противника бился.
Ох, и летели тогда вместе с сыплющимися из-за окна осенними листьями казацкие буйные головы, отрубленные руки, ржали раненые кони, волокли за собой в стременах посеченных, пронзенных насквозь — так, что загробный мир, темный страх становились видны — смуглолицых удальцов, вскормленных арбузами да пшеничными булками. Слетали малиновые папахи, и степные вороны устраивали в них гнезда, а мыши их грызли, выстилали шелком свои норки. Он же, Франусь, умывшись после сраженья, искупавшись в вынесенной под яблоньку лохани, закутавшись в халат, купленный позавчера в поселковом магазине, сидел, развалясь на лавке, сбитой из березовых поленьев, угревшись у вдовушкиного бока, выуживая прямо руками вареники из большой миски, слизывая масло с локтей, с запястий, с пальцев.
Не мог я наглядеться на Франуся-улана, досыта не мог налюбоваться. Так и хотелось самому подцепить лапой вареник, попробовать, каков он на вкус после битвы. В последнюю минуту я одумывался, напоминая себе, что мои руки, несмотря на леченье глицерином, несмотря на резиновые перчатки, еще не совсем избавились от зацепов, ссадин, трудовых мозолей. Однако, когда Франусь запевал песню, я подхватывал, вставал с качалки, брал у него из рук саблю и пробовал резать ею грудинку, накалывать на острие кусочки, чтобы не остаться голодным.
Частенько после этих схваток прибегала к нам вдовушка, приносила смородовое вино, четвертинку разбавленного спирта, поллитровку с красной наклейкой. И хмельной наш отдых, полусонный, едва отмытый от крови, от ружейной пальбы, мельканья сабель, сменялся явью. Бросались друг другу в объятия: он, Франусь, улан припоздалый, и она, длиннокосая красотка, хозяйка усадьбы, будто только вышедшая из мальвового садочка. Бросались друг другу в объятия, обжимались, как будто меня и не было рядом. Тогда я выходил из комнаты в садик, потому что на горки мне идти не хотелось, а в рощу и подавно. Я бродил по саду по щиколотку в листьях, вспоминал, а верней, смаковал вчерашние наши с Матильдой утехи и прислушивался невольно, как в комнате повизгивает эта парочка, жалуется, скулит, катается по ковру, по полу.
Однако чаще всего Франусь возвращался к Тоське. Мучил меня целыми часами, целыми осенними вечерами, упрашивая, чтобы я ей написал, вывел красивыми буквами такое же письмо, как несколько лет назад, когда с моей помощью они познакомились на гминном празднике, спознались в бывшем помещичьем саду, полюбились в лесочке.
— Напиши, голубчик, напиши, что тебе стоит. Я тебе пива принесу целый ящик, цыпленка зажарю, башмаки неделю буду чистить, ноги вымою в дубовой воде, чтоб не потели, только напиши. Жить без нее не могу. Не могу, сам видишь. Совсем голову потерял, к вдовушке подкатываюсь зачем-то, в постель к ней лезу, душу свою гублю, смертный грех на себя принимаю. Поколачиваю бедную бабу, кулакам даю волю, мучаю и тело и душу. А все из-за нее, из-за Тоськи. Пусть бы на один денек приехала, на часок заглянула. Чтобы я прикоснуться к ней мог, прижаться, пощупать, облапить, расцеловать, ущипнуть, где надо, — тогда все пройдет, точно рукой снимет, как если через плечо горсть семян кинешь, в колодец с лягушками плюнешь.
Напиши, Ендрусь, не заставляй себя просить, не позволяй ползать перед тобой на коленях, целовать тебе руки и ноги, молиться, словно богоматери ченстоховской. Напиши, золотой. У меня руки огрубели от извести, от штукатурки, пальцы распухли: ручки в них ни за какие сокровища не удержишь. А даже если б и удержал, если бы поднатужился, собрался, стиснул зубы, мозги свои шевелиться заставил, приневолил, я бы от натуги скорее язык себе отгрыз, нежели письмо составил. Одни пакости понаписал бы на всех страницах — что ни строчка, то пакость, мерзости хуже баб, поругавшихся в поле, задирающих юбки, чтобы показать друг дружке, всему белу свету немытую свою срамоту, солнышко, годами не видавшее речки.
А Тоське нужно писать атласно, шелково, на кленовом листе, на калиновом, чтобы ее не обидеть, не задеть, не оттолкнуть, против себя не настроить. Ей по нутру такое письмо, как твое. Дрожит она от твоих слов, всем телом дрожит и душой девичьей. Дрожит, я знаю: когда она мне твои письма читала, на ней, как на норовистой кобылке, вся кожа ходуном ходила и губы прыгали, а внутри соловей пел, ворковала горлица. И после такого чтения я мог с ней делать, что только вздумаю. Даже тяжести моих рук, шарящих по ее телу, она не замечала, как замечали другие девушки, которым ты от моего имени не писал, которых не улещивал загодя ровными, одна в одну, буквами. Так и брызжет из написанного тобой благородство, светозарность апостольская, поневоле забудешь навечно и навоз, и корову, и пахоту.
Напиши ты ей от меня, присядь на часок к столу, подумай и напиши, напиши, напиши. Длинное напиши письмо, живое, чтобы она не слова увидела, а душу мою вопиющую, разрываемую клещами раскаленными, искромсанную серпом, ножом изрезанную. Я тебе житья не дам, коли не напишешь, замучаю болтовней, заговорю насмерть. Не хочешь меня пожалеть, сжалься хотя бы над вдовушкой. Чем она виновата, что я по ночам прихожу к ней с кулаками, как мой родитель, дергаю за волосы, таскаю туда-сюда по комнате, руки заставляю целовать, ноги в резиновых сапогах, тяжелых от грязи и кладочного раствора. Я ведь не Христос, не архангел Гавриил и даже не викарий, я всего лишь недавний батрак, деревенщина, у которого до сих пор перед глазами маячит опрастывающийся жеребчик. Правда, и она не дева Мария, но, как-никак, дворянка, потерявшая поместье, и ей тоже причитается уваженье, доброе слово, выношенное под сердцем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
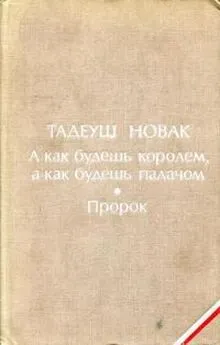



![Марина Весенняя - Дикая. Будешь моей женой! [litres]](/books/1077956/marina-vesennyaya-dikaya-budesh-moej-zhenoj-litres.webp)