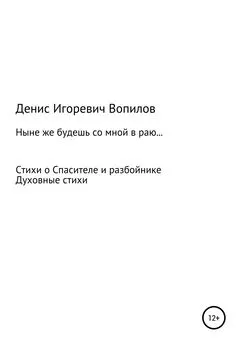Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Название:А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк краткое содержание
Во втором романе, «Пророк», рассказывается о нелегком «врастании» в городскую среду выходцев из деревни.
А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Я не шутила, милый. Почему ты не стал на меня охотиться? Неужели не видел, как я проскальзываю тайком в калитку, крадусь вдоль стены, возле каждой исповедальни преклоняю колени, лежу, распростершись, перед алтарем и молюсь, молюсь жарко, до испарины, покуда слова не рассыплются в прах и не одеревенеют губы? Ох, Ендрусь, почему ты не подошел ко мне сегодня, вчера, позавчера, не спросил ни о чем? Я б не стала, как они, убегать, не падала б на колени, не скулила собакой. Я бы тебя затащила в исповедальню, втолкнула внутрь, чтобы покаяться перед тобой во всем, что меня мучит. Ты такой деревенски чистый, по-коровьи, по-луговому невинный, маленький мой ксендз новопосвященный, новопомазанный, словно под венец ведомый на первое богослужение. Положил бы ты мне на голову руки, поцеловал в лоб, в незрячие глаза, чтоб изгнать из них все виденья.
— Что ж, я могу и поохотиться за тобой, и исповедать.
— Поохоться, печаль моя весенняя. Исповедуй. Прямо сейчас. Прямо здесь, любимый.
— Но ведь это не костел.
— Для меня костел, замусоренный, повседневный. Исповедуй меня в этом костеле.
— Украла?
— Да ты что, ясное дело, украла.
— Спала с кем попало во грязи, ради телесной услады?
— А как же иначе.
— Изменила, быть может, тоже?
— Не болтай чепуху, конечно, изменила. Как другие, как всякая баба. Если не на деле, то хотя бы в мыслях.
— Убила? Надеюсь, не скажешь, что убила?
— Задушила, убила, разрубила на куски этими самыми руками. Первый раз, когда мне было семь лет. Отец принес чижика в клетке — дочке в подарок, чтобы пел перед первым причастием, напоминал о небе. Чижик целыми часами свистел, чирикал, перепрыгивал с колышка на колышек, напоминая о лесистых предгорьях. Я добралась до него, подставив стремянку, вытащила из клетки и задушила. Плакала, ревела, словно с меня сдирали кожу, а сама все сжимала кулачок, пока он не перестал чирикать, шевелиться, пока весь до единого перышка не замер. И, обозлясь, что это пернатое, теперь недвижное, мокрое от слез, ничего больше не поет, не стучит ножкой, не разевает клюва, разрезала его портновскими ножницами на части и выбросила в унитаз. Опухшая от слез, обалдевшая, спустила воду, а когда в ванной стало тихо, упала на колени и молилась, молилась, пока не пришли папа с мамой.
Спустя несколько лет я убила хомяка, задушила так же, как чижика. Выманила листиком салата на середину комнаты из выстланной шарфиком корзинки. А когда он сидел на задних лапках на турецком ковре посреди единственного в тот день островка солнечного света, сжала руки. Плакала, заходилась от плача и душила это попискивающее существо, пока оно не замерло, не распрямило кривых лапок с мышиными коготками, не затихло. Задушив, разрубила кухонным ножом, которым у нас рубили мясо, завернула в газету, в страницу с некрологами, с объявлениями о панихидах, и бросила в мусорный ящик.
В прошлом году я задушила шелковым шнуром от халата свою собаку. Купленную мне несколько лет назад таксу, выкормленную из соски, избалованную всеми в доме. Согнала ее хитростью с соломенной подстилки, выманила из собачьего сна о мозговой кости, кормила шоколадными конфетами, пока она не вскочила мне на колени. Тогда я зажала ее между бедер и душила, дюйм за дюймом, миллиметр за миллиметром, пока она не перестала скулить, метаться, сучить лапами, пока ее выпученные глаза не заволоклись туманом. Задушив, обсыпала цветами, побрызгала духами, завернула в вышитую скатерть, отнесла на реку, привязала камень и кинула в коду. А месяц назад, перед тем, как познакомилась с тобой…
— Что месяц назад?
— Месяц назад, миленький, ровно месяц назад я сделала то же самое (ох, не убегай, Ендрусь, не бойся), хотела то же самое сделать со своим женихом. Но он вырвался из моих рук, убежал, как ты сейчас, и больше не появлялся ни в нашем доме, ни в одном из тех костелов, где мы с ним каждый день сидели, охотились, глядели на свадебные кортежи, подвенечные платья, венки, охапки белых цветов, срезанных ножницами, секатором, в руках у невесты.
Во время этой исповеди Матильда незаметно приближалась ко мне, подползала на коленях, на четвереньках, выдергивала горстями траву, осыпала меня сорванными с березок листочками. А когда совсем приблизилась, обняла меня, оплела своими руками и покатила по каменистому склону. Когда мы с ней вместе скатились к подножью холма, когда, наткнувшись на сосну, остановились, она вскарабкалась на меня и, усевшись верхом, крепко сдавила ляжками, выглядывающими из-под высоко задравшегося платья, когда же я застонал, сомкнула длинные пальцы на моей шее, на вертком, как мышь, адамовом яблоке. Когда я начинал задыхаться, синел, хрипел, когда глаза мои затягивало бельмами, Матильда ослабляла хватку и говорила:
— Задыхаешься, Ендрусь, синеешь. Не проглотил ты той мыши, брошенной в кропильницу, той лягушки, квакающей, выскакивающей из святой воды. И никогда уже не проглотишь, и не выплюнешь, разве что с последним вздохом.
После чего слезала с меня, слетала, словно пушинка, и, белее извести, белей ближних, обгрызенных козами березок, раздевалась донага. И любила меня, любила. Царь небесный, как она меня любила. В любви этой, не замечающей, что по лесочку бродят люди, что трудовой день помахивает косой в хлебах на соседнем поле, я забывал о недавней ее исповеди, о том, как мы сидели в костелах, бросали в святую воду дохлую мышь, корявую жабу. Костелом, исповедью было ее девичье тело, вечно ищущее, неодолимое.
В первый раз мы любились за чижика. Певучая была эта любовь, как говорила Матильда, сверх меры крылатая, щебетливая. Второй раз — за таксу. Ох, и жаркая была любовь. Как в Содоме, как в Гоморре, когда плавится соль, металл обращается в прах и кость высыхает в щепку, целиком, до мозга чернеет. А в третий раз мы любились за хомяка. Любовью зерновой, травяной, подземной — всего понемножку там было. И была еще четвертая любовь. Поисковая, как ее называла Матильда, ради суженого. Потому что мы себя в этой любви неспешно, пальчик за пальцем искали, до самых сумерек, до августовской росы, упадающей на березки, на сохлую траву, на стекло и газеты.
А любя меня так после исповеди, крепко обнимая, Матильда стрекотала, не закрывая рта, и плакала, и смеялась тоненько, как умеют смеяться только очень молодые девушки, входящие нагишом в июльскую реку, застигнутые за разглядываньем наливающихся молоком грудей, крутого живота, ожидающего разрешения от бремени:
— Ты бы меня так не любил, мальчик, не ласкал, если б я не убила, не задушила этими руками, не разрубила на части. Нет, не любил бы, Ендрусь. Убежал бы от меня, в костеле оставил или избил до полусмерти, как в деревне умеют. Все вы одинаковы. Вам и глядеть на нас не очень-то хочется, я уж не говорю, поцеловать, обнять в потемках, когда мы хорошие, добрые, похожие на людей. И ты бы меня не любил, не ласкал, если б не охотился со мной в костелах, не бросил в кропильницу мышь с лягушкой. Это ж ты вместе со мной задушил чижика, удавил хомяка, разрубил на куски собаку. Слышишь, как они чирикают, попискивают, скулят? Слышишь, милый?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
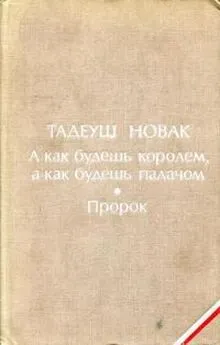



![Марина Весенняя - Дикая. Будешь моей женой! [litres]](/books/1077956/marina-vesennyaya-dikaya-budesh-moej-zhenoj-litres.webp)