Дмитрий Пригов - Мысли
- Название:Мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1055-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Пригов - Мысли краткое содержание
Мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При работе же с самими компьютерно-виртуальным мифами и мифологемами прежде всего надо обратить внимание на проступающие сквозь них архаические черты подобных же в пределах всей человеческой культуры. А также на механизмы возникновения, порождения их в пределах староантропологической культуры (в смысле «старо» в ее не столько оппозиции, но в определении относительно возможной экстраполированной экстремы новой антропологии). То есть проекции на них всех представлений об инопространстве — от адских до райских.
Этому, собственно, и посвящен мой достаточно давний проект «Компьютер в русской семье» <1994> и мои нынешние, актуальные для меня и поныне, размышления на эту тему. Первый, внешний уровень проекта — китчевый, игровой — являет сочетание образцов новейшей технологии и традиционных, вроде бы впрямую не сопоставимых, обычно не сополагаемых в пространстве одного эстетического проекта, предметов быта. То есть представляет собой обычный нынешний способ апроприации традиционным человеком современного дизайна и эстетики.
Второй же уровень презентирует практику магических охранов, оберегов от внедрения внешнего страшного мира в жилище и человеческое тело (жилище духа, персоны) посредством сакрально-магических узоров и орнаментов на всех входах — окнах и дверях, а также на внешних антеннах тела — браслетах, ожерельях, кольцах. Подобные же визуальные приемы использованы и при тематизации мифологемы компьютера и интернетного инопространства. Помимо украшения самих компьютеров и подставок узорчато-орнаментированными салфетками, воспроизведены другие способы оберега от вторжения в наш мирный быт этого инопространства. Показаны и многочисленные способы доместикации компьютера посредством постепенного внедрения его в среду уже одомашненных предметов быта, вплоть до окончательного претворения его в чистый свет (простое свечение экрана), при котором автор читает книгу. В этом последнем акте тоже прослеживаются несколько культурных аллюзий. Ну, во-первых, весь смысл компьютерного инопространства стянут опять-таки на книгу, на процесс чтения, постижения текста как медитации. К тому же явен отсыл к картине Рибейра «Святой Иероним в пещере», где свет от единственной звезды в потемках падает на Писание. К тому же припоминается картина советского художника (не припомню его имя), где изображен Ленин на какой-то конспиративной квартире, погруженный в чтение при свете притененной зеленоватой настольной лампы.
Ну и третий уровень работы представляет собой культуро-критицическую рефлексию (явленную в имидже эдакого наивного апроприатора современной технологической культуры) по поводу всего объема виртуально-компьютерной идеологии.
И последней уровень — стратегический (следует учитывать еще и собственный сложно-строенный и многосоставный миф самого конкретного автора — в данном случае я имею в виду себя, — в котором этот имидж является одним из многих взаимодействующих имиджей и потому достаточно сложен для подробного слежения и достоин, пожалуй что, лишь поминания здесь), представляющий собой артистический жест назначения, «унижающий», «уничижающий» претензии самодостаточного и самоапологетирующего как бы наисовременнейшего языка и технологии в поучение всем прочим языкам в пределах современной виртуализированно-стратегической явленности художника в нынешней культуре.
Ну и, конечно, повторим все оговорки по поводу возможной абсолютной некомпетентности в данной области.
РАЗГОВОРЫ С ДРУЗЬЯМИ
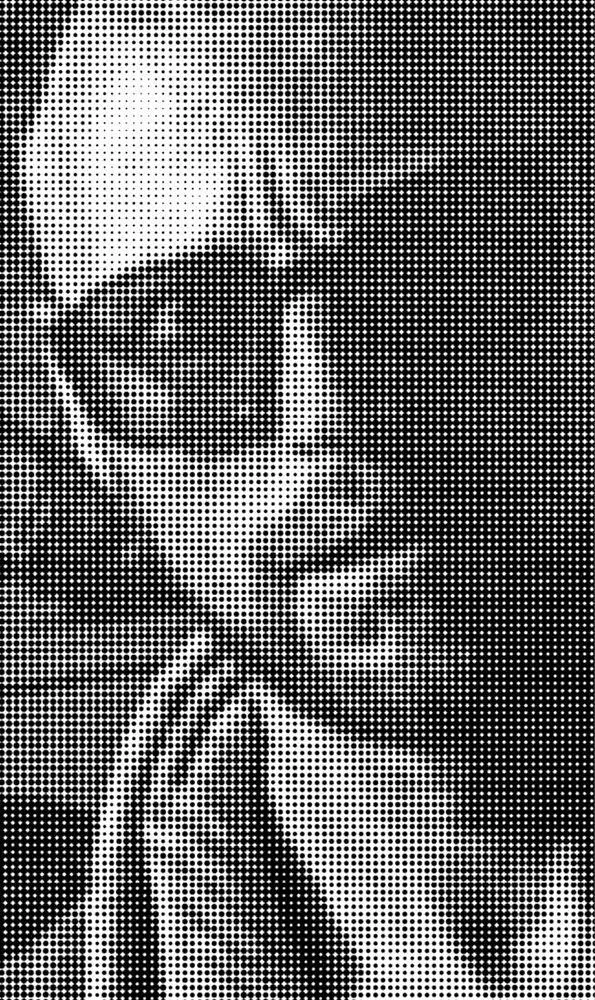
Об Орлове и кое-что обо всем [113] Опубликовано в самиздатском альманахе ≪МАНИ≫ (№ 2, сост. В. Захаров, В. Скерсис, июнь 1981) Предоставлено А. Житеневым.
1981
Картина послевоенного искусства, во всяком случае изобразительного искусства европейского ареала, давала повод подозревать, что дальнейшее его развитие пойдет по пути окончательного изничтожения, даже самоиспарения, всяких национальных признаков. На примере доминировавшего тогда абстракционизма, особо преуспевшего в этом деле, ясно наблюдалось слияние европейского изобразительного искусства в один, неразличимый по-национально, но только по-личностно континуум. С естественной ностальгией можно было следить безропотный и неизбежный уход этих национальных примет из содержательной и материальной сферы произведений искусства, различимых уже лишь на предельном уровне национальных архетипов ощущения и восприятия пространства и цвета.
Тем более удивительным было появление на этой вычищенной и выметенной сцене нового действующего лица — искусства регионального, в меру понимаемого вне места и среды его порождения (прежде всего имеется в виду американский поп-арт). Мера же его непроницаемости для представителя инокультуры отчетливо проявилась во время экспонирования произведений американского поп-арта в Москве. И речь идет не о недопонимании идейных или эстетических предпосылок и установок, нет — речь идет о буквальном непонимании, незнании, неразличении, невозможности оценить истинные величины, акцентации и поля значений реалий поп-арта. Для нас, практически лишенных культуры предмета, фабричное качество поп-арта становится отличительным признаком, в то время как в сфере американской промышленной культуры предмета оно есть не черта различения, а наоборот — нулевой признак, не выделяющий, а вводящий произведение искусства в ряд столь же качественных вещей ширпотреба, рекламы и тому подобного. Если и присутствует момент отличия, то как раз от традиционной рукодельной качественности произведений искусств. Это усугубляется для нас, к тому же, и частичным выпадением смысловой стороны произведения поп-арта, когда имя и лицо Мэрлин Монро говорит нам неизмеримо меньше, чем имя, лицо и волосы Анджелы Дэвис.
Речь, конечно же, не идет о полном непонимании. Общечеловеческий и общеэстетический пласт, лежащий в основе этих произведений, не до конца угадываемые, но ощущаемые неложность и закономерность сведения на этом пласте непривычных для нас элементов и реалий дают возможность восприятия этих вещей и сопереживания им.
Следует отметить и еще некоторые черты подобного религиозного искусства, хоть и не уподобляющие его традиционно-народному, но дающие основания для утверждения определенного типологического сходства. Это сходство, естественно, не в темах, а в принципе обработки тем, принципе конструирования произведений искусства и способа их бытования — клише, регулярный набор, цитатность, злободневность, открытый игровой момент, антипсихологизм и антиперсонализм, принципиальная эгалитаризация языка. Отбор тем идет по принципу предпочтения наиболее ходульных и фетишизированных, до конца понимаемых не столько в пределах самого произведения, сколько во взаимодействии его с контекстом жизни. Большое значение приобретает жест, указывающий на эти явления жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



