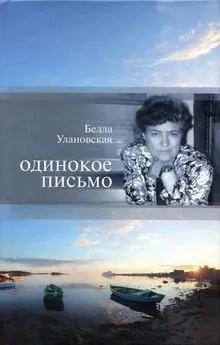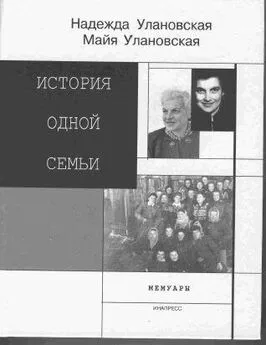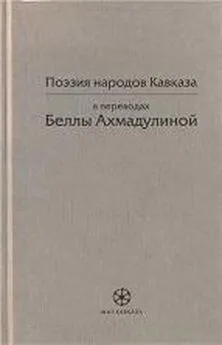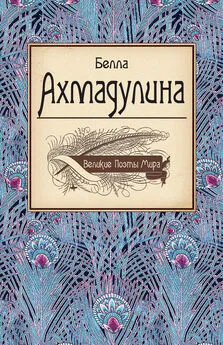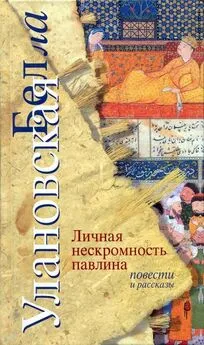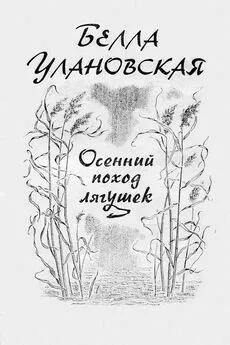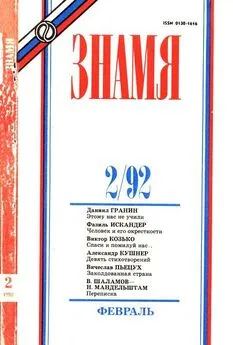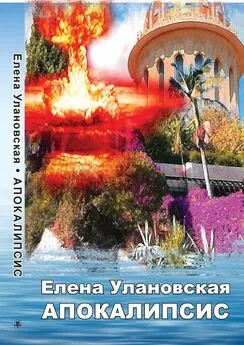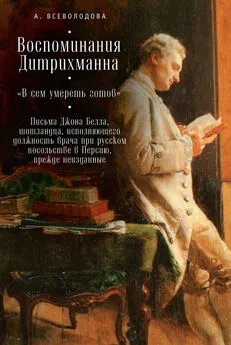Белла Улановская - Одинокое письмо
- Название:Одинокое письмо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое Литературное Обозрение (НЛО)
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-730-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Белла Улановская - Одинокое письмо краткое содержание
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
У 47
СОСТАВИТЕЛИ:
Б.Ф. Егоров
Т.Г. Жидкова
В.И. Новоселов
Н.М. Перлина
Б.А. Рогинский
Улановская Б.
Одинокое письмо: Неопубликованная проза.
О творчестве Б. Улановской: Статьи и эссе. Воспоминания. —
М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 480 с.: ил.
В сборнике памяти замечательного петербургского прозаика Беллы Улановской представлены произведения писательницы, не публиковавшиеся при ее жизни, статьи о ее творчестве и воспоминания о ней, а также фотографии, часть которых была сделана Беллой Улановской во время ее странствий по Северной и Центральной России.
ISBN 978-5-86793-730-0
© Тексты Беллы Улановской и фотографии. В.И. Новоселов, 2010
© Подготовка текста, составление. Б.А. Рогинский, 2010
© Воспоминания и статьи. Авторы, 2010
© Художественное оформление. «Новое литературное обозрение», 2010
Одинокое письмо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
До поры до времени так все и шло, этим все и ограничивалось. Но вот однажды мне случилось в ее присутствии упомянуть о своей знакомой, Лиде Одинцовой, редакторе архангельского издательства, выпустившей первый сборник Казакова — «Манька». Не могу себе даже представить эффект, если бы упомянут был сам Юрий Павлович, но и Лиды Одинцовой оказалось достаточно, чтобы ощутить бесповоротное ко мне расположение Беллы — как к человеку, который «знаком с Лидой Одинцовой»! Вскоре после этой ошеломившей ее информации, представляя меня кому-то из своих знакомых, она в первую очередь сообщила: «Он знает Лиду Одинцову!»
Я упомянул приветственную улыбку Беллы, но не сказал о ее манере общения, с характерным возгласом в ответ на любое услышанное суждение: «He-а!» Не категоричное «Нет!», а именно так: «He-а!» Восклицание, никому не досаждавшее и свидетельствовавшее не столько даже о несогласии с собеседником, сколько о неизменном присутствии в сознании Беллы какого-то параллельного, не вписывающегося в беседу мечтательного хода мыслей. За этим «He-а!», вместо опровержения услышанного, следовало по большей части изложение какой-то взволновавшей ее в эту минуту, сопрягшейся в ее воображении с беседой собственной идеи.
Да, Белла жила — и прожила — жизнь по мечте. По мечте, конгениальной ее жизни.
Ведь и мечты и мечтатели бывают разные: можно замечтать жизнь, лежа на диване, как Обломов, можно прогрезить ее за письменным столом и даже писать при этом о каких-нибудь неведомых странах, о «парении духа»...
Белла прожила жизнь по мечте, литературе тоже не чуждой, если вспомнить не только Юрия Казакова, но и, скажем, Генри Торо, знакомство с трансцендентализмом которого у Беллы обнаруживается вполне явственно.
Неизбежная драматическая коллизия подобного способа познания мира — на убегающих за горизонт дорогах — заключается в том, что она всегда подразумевает некоторую задержку, отставание от времени, в которое мечтатель собирается попасть в конечном пункте. Там уже все свершилось — до него и без него. При том что от времени, протекающего в исходном пункте, он отрешен априори.
«Возможно, я тоже пропустила главное свое время, и теперь наверстать мне будет трудно», — признается рассказчица из «Путешествия в Кашгар», четко определяя свое положение — героини не нашего времени. Скрытый сюжет этого произведения заключается в том, что занятая героиней позиция мечтательницы и визионерки расшифровывается как позиция героическая. Детская отчаянная и нелепая ложь Татьяны Левиной, объявившей себя «дочерью Аркадия Гайдара», — никакая не ложь, а сюжетная метафора, провозвестница и начертатель судьбы.
Как писателя Беллу Улановскую ложь вообще интересовала не слишком. Много важнее и выше для нее было понять — в каком взгляде на жизнь больше правды? В данном случае правда раскрывается «по умолчанию»: героиня «Путешествия в Кашгар» погибает на далекой китайской границе, принятая вражеским отрядом за партизанку. Точь-в-точь так, как погиб реальный Аркадий Гайдар на реальной войне — за линией фронта.
На границу с Китаем Беллу привело опять же «отставание от времени», филология, занятия Достоевским, принесшие в итоге не похожие ни на какое достоевсковедение плоды.
Через давно прошедшее время Достоевского Белла была связана и с современными, близкими ей по отстраненности от основного литературного потока авторами, такими, например, как Федор Чирсков, товарищ по допечатным странствиям...
Но пронзительнее и крепче всего для нее оставалась первая любовь.
Маршрутами Юрия Казакова Белла прошла всеми, какие знала, — и северными, и среднерусскими: от побережья Белого моря до левитановских плесов и часовен «над вечным покоем». И говор, и пейзаж всех этих мест усвоила и передала с точностью едва ли не профессионального этнографа (филологическая выучка и тут пришлась кстати). В затерянном мире сворачивающих в никуда проселков и вымерших деревень Белла увидела и движение, и жизнь. В ее глазах они настолько довлели себе, что оставалось только записывать, дабы не потревожить этот мир собственными литературными пристрастиями.
В результате появилось нечто на Казакова не слишком похожее: вместо «Осени в дубовых лесах» — «Осенний поход лягушек».
Характерное для прозы Казакова лирическое развитие сюжета обуславливается прежде всего мастерским анализом и демонстрацией переживаний автора или его героя. В прозе Беллы Улановской эта завораживающая демонстрация решительным образом редуцируется, автор попросту стесняется тратить на нее слова, свой тайный лирический заряд обращая на существа бессловесные, вроде волков, котов и тех же лягушек. Но даже и в этом безгласном сообществе она не преминет поразиться «личной нескромностью павлина».
Рассказы и повести Беллы мимикрируют под дневниковую запись, под прозу путешественника-натуралиста, прокладывающего странный путь — в сторону великого безмолвия, к некоему заколдованному царству.
Об очерковом характере этой прозы все же говорить можно только формально, ее фрагментарность имеет никак не описательную, но в зародыше своем — поэтическую природу. Это и есть поэзия, послушная завету Баратынского — «Любить и лелеять недуг бытия».
Уловить и запечатлеть «пламенный недуг» безмолвия, научиться говорить на его языке — именно к этому стремится Белла Улановская как прозаик-поэт. Ее цель — доцарапаться пером до смысла отступившего в никуда бессловесного мира. Бессловесного, конечно, только с точки зрения представителя доминирующей репрессивной культуры, апологета «правильного» образа жизни и мыслей.
Сочувствие к полуугасшему и все же гармоничному, ибо сросшемуся с природным, «неправильному» человеческому копошению на задворках цивилизации в высшей, гуманистической степени отличает прозу Беллы. Она хотела показать, «из каких трещин растут березы» («Сила топонимики»), поддержать тех, кого не поддерживает никто: волка, ворона, мышонка, лягушку, неведому зверюшку, тетю Нюшу, избитого бесправного солдатика, которому, единственная среди мужиков, могла крикнуть и крикнула: «Эй, парень, не робей!»
Чего же больше!
Сергей Стратановский.
Памяти Беллы Улановской [*] Впервые напечатано в альманахе «Достоевский и мировая культура» (СПб., 2006. № 21); перепечатано в журнале «Новое литературное обозрение» (2006. № 77).
Ее настоящее имя было Изабелла, но так ее никто не звал, и она сама подписывала свои произведения: Белла Улановская. Мне трудно говорить о ней в прошедшем времени: слово «смерть» не подходит к ней. Была она человеком не просто жизнелюбивым, а жадным к жизни, к жизненным впечатлениям. Именно это свойство ее души и заставляло ее забираться в псковскую и тверскую глушь, исходить весь берег Белого моря. Собственно, ее увлечение охотой тоже было способом узнавания не только лесного мира, но прежде всего людей. Охота не была для нее каким-то эскапизмом, бегством в лес от советской жизни... Напротив, она чутко реагировала на то, что происходило в нашей стране, социальная тема звучит во всех ее произведениях, но подана она «не в лоб», а как бы по касательной... Она предугадывала события, случавшиеся позже. Вот, например, повесть «Путешествие в Кашгар», первый вариант которой был написан в 1973 году. Тема — условно-воображаемая: вступление советских войск в Синьцзян, западную провинцию Китая, иначе называемую Кашгаром. Цель — «водворение в стране подлинно народной власти» и «восстановление норм партийной жизни». Написано это было задолго до Афганистана. Предвидение? Да, но только отчасти. Наше поколение болезненно восприняло события 1968 года, когда советские войска вошли в Чехословакию. Отозвалось это не сразу, а через несколько лет: у меня в стихотворении того же, 1973 года «Суворов», у нее в повести о непроизошедшей войне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: