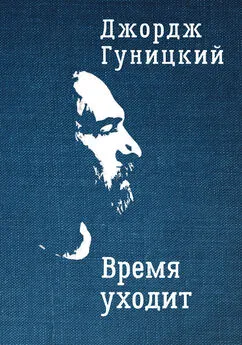Анатолий Бузулукский - Время сержанта Николаева
- Название:Время сержанта Николаева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Белл
- Год:1994
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-85474-022-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Бузулукский - Время сержанта Николаева краткое содержание
Б 88
Художник Ю.Боровицкий
Оформление А.Катцов
Анатолий Николаевич БУЗУЛУКСКИЙ
Время сержанта Николаева: повести, рассказы.
— СПб.: Изд-во «Белл», 1994. — 224 с.
«Время сержанта Николаева» — книга молодого петербургского автора А. Бузулукского.
Название символическое, в чем легко убедиться. В центре повестей и рассказов, представленных в сборнике, — наше Время, со всеми закономерными странностями, плавное и порывистое, мучительное и смешное.
ISBN 5-85474-022-2
© А.Бузулукский, 1994.
© Ю.Боровицкий, А.Катцов (оформление), 1994.
Время сержанта Николаева - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Безвольно шатающегося, взмокшего ассистента Федорова тянуло в гущу людей, особенно таджиков. Таким образом, он оказался на лобном месте Путовского базара среди куч арбузов и дынь, моркови и лука, горок хурмы, гранатов, винограда и прочей вечной снеди, натюрморта жизни, опрокинутого на землю. Он лелеял просьбу жены купить всякой всячины к повседневному столу.
Когда-то рынок был дешевым, как рукопожатие; он приходил сюда есть дымящийся плов с румяными кусками баранины, пахнущий чистым и дровяным костром, слушать гам извержения товарообмена, треск точащихся ножей, визгливые зазывания, крики ишаков, нюхать разрезанные плоды, пробовать и улыбаться. Он думал, что базар для созерцательных таджиков больше торговли, — досуг или натуральное лицедейство, отдохновение и нетронутое время, и было понятно, что братьям-торговцам нет выгоды изгонять безземельных русских чревоугодников. “Э, земляк, покупай. Что ты? Как мед. Вот мана еще. Э, хай ладно, что ты. Майляшь”. По извивам тесного базара, как по жилам и расщелинам, текли встречные струи взаимного безобидного обмана.
Федоров уже купил арбуз, отказался от покупки дыни, опасаясь ее силитрового нутра, и теперь наклонился над картошкой стеснительного прыщавого юноши, быстро заполняя сетку красноватыми крупными клубнями.
Поворачивая радостную голову в сторону таджичонка, он услышал его недовольство: “Э, зачем выбираешь?” — и увидел, как другой человек, вероятно старший продавец, жестом подсказывал младшему, что, мол, нельзя так глупо торговать. У подсказчика было тяжелое, волосатое нагромождение живота и груди и пухлое, одутловатое лицо, как оплывшая свеча, с пухлыми, разумными, ориентальными глазами.
— Боже! Узнал ли он меня? — обомлел Федоров, конфузливо расплачиваясь с младшим и отворачиваясь от старшего, разнесенного жизнью, не виданного сто лет, звали его, кажется, Рахмонов. Наверное, узнал, не тогда, когда указывал пальцем тайком, что русский чересчур выбирает, а когда встретил лицо в очках и врожденный ежик волос и когда усомнился в настоящем времени. Однажды мальчик Федоров сказал в сердцах этому мальчику Рахмонову, уже тогда толстому и хулигану: “Как смеешь ты меня обижать, ведь ты ходишь в моей рубашке?” Действительно, мать Федорова относила многодетной семье Рахмоновых ношеные вещи на бедность. Рахмонов тогда разозлился, стащил с себя проклинаемую рубашку и тут же втоптал ее в жгучую пыль и оплевал исторгнутой сопливой гадостью.
Федоров уходил на окраину базара и разгадывал имя деда Рахмонова: то ли Бобосадык, то ли Бобокалон. Молчащий, седобородый, пыхтящий, белорукий чалмоносец с отшлифованной клюкой, о котором говорили, что он задницей чует скорое землетрясение.
Вдруг Федоров услышал у мясного ларька обычную пикировку в очереди и последнюю уходящую фразу, которую он ждал целый день, как смертное видение.
Спорили две распаренные покупательницы. Сначала таджичка воскликнула: “Уезжайте к шайтану в свою Россию. Это наша земля”. Потом русская с гипертонической краснотой: “Вы свою землю всю в уборную перетаскали”. Над ними захохотали, как над преждевременными кликушами, воображая странный миф, будто бы таджики используют глину вместо туалетной бумаги. И вот тогда, удаляясь, кажется, русская крикнула, что сейчас на улице Айни у бывшего нарсуда парни таджики изнасиловали русскую молодую женщину в квартире. “Звери! Одно слово — звери!” Ее бока сотрясались от тяжести сумок и праведного отпора, слова разбрызгивались, как кислая пена в рассохшемся воздухе, загривок пунцовел.
Федоров побежал. Арбуз уравновешивался картошкой. Руки на всякий случай не выпускали насущную напрасную ношу. Рядом или вослед топало сердце самодовлеющей поступью. Жена была тоже улыбчивой, замкнутой, домашней, русской, красивой, с симпатичным вторым подбородочком.
Он бежал фантастически долго мимо центрального парка, кинотеатра “Джами”, филармонии, гостиницы “Вахш”, что составляло несколько троллейбусных остановок. Жара сияла. Бег сопровождало колыханье ветра вокруг кожи, как будто она горела, облитая бензином и подожженная. Он остановился, чтобы выдохнуть глыбы скопившегося воздуха напротив памятника Айни и опять пустился по одноименной улице, на которой жил с семьей в двухкомнатной квартире в районе бывшего нарсуда. Он уже знал, что он сделает, если подтвердится мнительная греховная догадка.
Во дворе дома у древнего обобществленного, проросшего топчана на корточках сутулились братья Курбановы в новеньких, с иголочки, брусничных чапанах, с набухшими, осоловелыми ртами, и кивали ему по-соседски. Федоров взглянул на второй этаж: окна были целы и целомудренно открыты.
Он поднялся и толкнул незапертую дверь. В вечереющих комнатах пестрели домашние шумы, кажется, пела и плакала девочка, может быть, его дочь. На полу в тенистой прихожей не было ни крови, ни следов, ни улегшейся пыли. Пахло ужином, вчерашним или новым. Дул хилый, благословенный сквозняк, шепоток дервиша или черного муллы. Во рту не подчинялся обезвоженный гонкой язык. Терпенье натыкалось на стены.
Начиналась душная, палевая, горчащая, скучная осень.
1990 г.ДАВКА
В начале лета на пригородных трассах, внутри пыльно-оранжевых “икарусов”, курсирующих вдоль обмелевшего, мутного, бывшего Финского залива, установилась смертельная давка. Перроны и автобусные остановки кишели дачниками, отпускниками с характерным рассеянием, бабулями, детьми, собаками, поклажей, саженцами, пьяными крикунами.
В ожидании транспорта телодвижения публики наливались расчетливой борьбой за местечко: так встать, чтобы двери отворились напротив. Было много жалкого злорадства, безутешной брани, безутешной бравады, нелепости, поражения: а, пусть лезут, все равно не сесть. Каламбурили себе под нос, непонятно, гневно, сатанели, наслаждались упадком.
Жизнь требовала приемлемости. Было жаль то, чего не жалеет никто в целом мире. Везунчики и пройдохи несколько секунд прихорашивались, но, наткнувшись на омерзение в чьем-нибудь взгляде, досадливо зарывались в газеты или виды за окном. Газет было много, шуршащих разоренными ассигнациями дней. Было относительно солнечно ближе к вечеру, влажно и кисло у берегов с запекшимся песком. Сквозь автобусные стекла, вечно не мытые с обеих сторон, липкие зелененькие складки жизни представали в обрывках, и поэтому тот прибрежный облизанный песок был похож на огромные мертвые коровьи губы, и все другие элементарные наросты: камни, деревья, пожирающий сам себя асфальт, а также выровненная, светящаяся вода залива — тоже напоминали куски не пейзажа, но натюрморта.
Пассажир, юноша с тонкими колкими усиками, черным ежиком головы и совершенно прямыми плечами в добротной, фирменной майке, кажется, студент (его смугло-матовому румянцу и презрительности или гордости пошло бы имя Слава), которого никто не мог знать в переполненном автобусе и который ехал на ночное свидание к девушке вожатой в детский лагерь, всю дорогу не мог найти места своим глазам. Он перепробовал не одну тему, чтобы забыться в этой толчее, он представлял свою девушку Лиду, глотал слюнки засахарившегося вожделения, думал, что такая же сочная жидкость начинает увлажнять и ее и что она теперь не может контролировать детей, что она стонет и валяется в вожатской комнате или на пляже с почти выпростанными из купальника грудями и что это ее понятное нетерпение может положить ее под любого самца. Солнце, темперамент, похабные дни, физрук или мальчик из старшего отряда с басисто звонким голосом... Слава мерно мрачнел, и этот мрак шел его скороспелому загару, как корочка пирогу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: