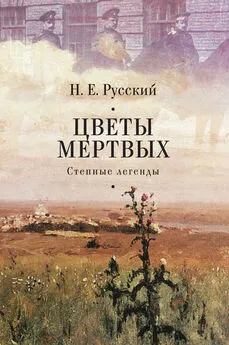Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]
- Название:Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-907030-47-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres] краткое содержание
Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И многие тысячи идут. Я стою недалеко и наблюдаю. Колебание: идти или не идти? Осторожность подсказывает не идти. Чувство военной солидарности – идти со всеми.
В самый решительный момент моих сомнений кто-то тянет меня за рукав. Оборачиваюсь.
– Подожди! Успеешь! – слышу шопот.
– Да кто ты? И что тебе от меня нужно?
– Не кирпичись! Успеешь, говорю! – и крепко держит меня за руку.
Так мы простояли до конца регистрации. Всех отпустили по домам.
– Ну, что? – спрашиваю, – отпустили, ведь теперь мне беда!..
– Ничего! Погоди дня три, – отвечает незнакомец.
Через три дня страшная весть пронеслась по городу: всех зарегистрированных расстреляли. Где? В Воронцовских садах за Симферополем. Пробираюсь туда. Возле деревянных сушилок для фруктов – неровные громадные возвышения разрытой земли. Везде валяются носовые платки, носки, портянки. Бродят одинокие женщины, поднимая и рассматривая грязные, заношенные в походах вещи, ища свои реликвии. Одна находит коричневый на пятке и носке носок. Прижимает его к губам, плачет горько, безнадежно.
«Это Колин носок, сына моего, моя штопка…»
В другом месте старая женщина тащит из могилы рваный ботинок, силясь снять его с похолодевшей ноги расстрелянного. Ей это не удается. Земля шевелится, обнажая всю ногу в военных штанах.
Голодный собаки рыскают, зло ворча на людей, занятые своей добычей… Довольно! Этого не описать даже через тридцать пять лет…
В деревянных сушилках все стены исписаны:
«Мамочка! Прощай! Коля».
«Прощайте! Ваш Вася».
«Нас обманули, предали… Простите и прошайте!..»
Это бывшие на очереди и слышавшие зверскую расправу, второпях, в темноте ночи, писали на этих импровизированных скрижалях свои имена, взывая к человечеству и к истории человечества. Кто не успел написать, срывал ботинки и носки с ног, бросал на землю носовые платки, чтобы дать знать родным и всему безразличному миру о случившейся расправе.
«Ангеле Божий….»
Через 25 лет. Высокие пики Альпийских гор. Лиенцевская долина. Маленький, чистенький, разрушенный у вокзала город Лиенц. Воинские части ген. Доманова и беженцы заполнили всю долину реки Дравы.
Немецкие солдаты давно в плену, в концлагерях за проволокой. Мы почему-то на свободе. С оружием. Каждый сознает, что и он тоже побежден вместе с немцами и что его ожидает та же участь, т. е. – плен. Это естественное и логическое заключение для побежденных.
Но победители медлят… Невольно у каждого рождается надежда: кто-то о нас думает, хлопочет. Есть же на свете справедливость! Живем так ровно месяц – совершенно свободные. С оружием.
26 мая 1945 года – приказ английских оккупационных властей сдать оружие. Сдаем. Неприятно расставаться с боевым оружием. (Мы смолоду привыкли не расставаться с ним и хранили его, рискуя, и в годы своего безвременья).
Но не видим в этом ничего необыкновенного. Мы пленные и должны подчиняться победителям. Таков международный закон. Все взволнованы, но спокойны. Говорят, что переменилось правительство в Англии. Что это? Хуже или лучше? Сказать трудно.
28 мая – спешный приказ: всем офицерам отправиться на английских машинах в Шпиталь на совещание.
Одни находили, что это плен. Другие, что освобождение, третьи еще пуще – что там на совещании произойдут назначения в колониальные английские войска. Но все подчинились, ибо должен же был быть какой-то нам приговор.
Я вместе с группой офицеров. Жду машину. Ее нет и нет. До самого позднего вечера. Злюсь и ухожу к себе, за полтора километра, взять вещевой мешок, так как скоро ночь и без вещей в Шпитале будет плохо. Возвращаюсь на место со своим адъютантом – никого уже нет. Идем спать к себе. Наутро страшная весть: всех офицеров предали и выдали Советам…
В четвертый раз меня кто-то спасает… Кто-то отводит руку, поднятую надо мной. А сколько мелких, ничтожных случаев, которые могли окончиться трагически, проходили благополучно. Теперь, на седьмом десятке, когда жизнь прожита, даже если и случится что-нибудь еще и будет неизбежна гибель, уже пенять будет не на кого. Почти семьдесят лет хранил меня Кто-то… И если теперь явится смерть, насильственная или естественная, – это будет естественный и неизбежный конец.
Тяжела была жизнь, иногда очень плоха, иногда хороша. Но кто меня хранил всю жизнь? Кто оберегал?
Ангеле Божий – Хранителю мой святый?..
«Русская мысль», Париж, 31 декабря 1952, № 515, с. 6.
Туринские степные легенды
Послесловие
После Второй мировой войны в Турине проживал некий Бруно Лонгобарди, работник знаменитой автомобильной фабрики ФИАТ. В Италии и по сию пору – тысячи людей с такой комбинацией имени и фамилии. Особенностью туринского Бруно Лонгобарди было то, что он одновременно являлся русским писателем, а в переписке с соотечественниками называл себя уже не Бруно, а Борисом Николаевичем.
Похоже, что Лонгобарди несколько тяготился своей архиитальянской фамилией, и свои публикации в эмигрантской прессе подписывал псевдонимом Русский. При этом он отдавал себе отчет, что в качестве беженца, утратившего Родину и, по всей видимости, скрывавшегося от принудительной репатриации под новым именем и, быть может, под вымышленной биографией, он как-то терял свою русскость: поэтому перед псевдонимом писатель ставил инициалы Н.Е. и становился таким образом Нерусским. Ряд своих текстов он именно так, впрямую, и подписал – Нерусский.
Кем же в действительности был замечательный литератор, первую книгу которого держит в руках читатель?
Придется его сразу разочаровать: настоящее имя автора этой книги, несмотря на все наши поиски – включая полицейские архивы в Турине и архивы фабрики ФИАТ – установить пока не удалось. Очень вероятно, что он был зарегистрирован в Италии под какой-то другой фамилией и Лонгобарди – это один из псевдонимов. Известно, что послевоенные беженцы, которых тогда называли «новыми эмигрантами», а теперь «второй волной», скрывали свои настоящие имена и происхождение, в отличие по представителей «волны первой», гордившихся своим дореволюционным прошлым. После 1945 года «новые эмигранты» из русских превращались в нерусских (см. об этом рассказ «В поисках русского») – в украинцев, литовцев, чехов, евреев, поляков, обрусевших немцев и итальянцев.
Тогда и Бруно (Борис) Лонгобарди – обрусевший итальянец? Их было немало, и не только великие мастера, строители московского Кремля и петербургских палаццо, но и бедные крестьяне, бежавшие от батраческой доли в щедрое русское Причерноморье и прочие места расширявшейся Империи. Фамилия Лонгобарди в Италии весьма распространена: первоначально она относилась к потомкам лангобардов, германского народа, заселившего добрую часть Апеннин после падения Рима. Встречается, много реже, вариант Лонгобардо, которым иногда пользовался также и автор книги.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/1085562/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo.webp)

![Нил Гейман - Мифическое путешествие: Мифы и легенды на новый лад [сборник litres]](/books/1064578/nil-gejman-mificheskoe-puteshestvie-mify-i-legendy.webp)
![Михаил Юхма - Цветы Эльби [Рассказы, сказки, легенды]](/books/1069993/mihail-yuhma-cvety-elbi-rasskazy-skazki-legendy.webp)
![Глен Кук - Хроники Черного Отряда: Книги Мертвых [сборник litres]](/books/1071987/glen-kuk-hroniki-chernogo-otryada-knigi-mertvyh-sb.webp)
![Михаил Щукин - Морок [сборник litres]](/books/1078301/mihail-chukin-morok-sbornik-litres.webp)

![Александр Бушков - Степной ужас [сборник litres]](/books/1142744/aleksandr-bushkov-stepnoj-uzhas-sbornik-litres.webp)

![Генри Каттнер - Смех мертвых [сборник litres]](/books/1147764/genri-kattner-smeh-mertvyh-sbornik-litres.webp)