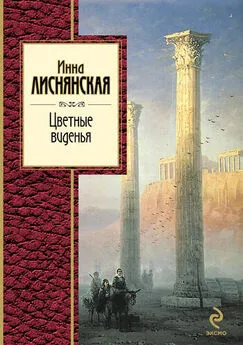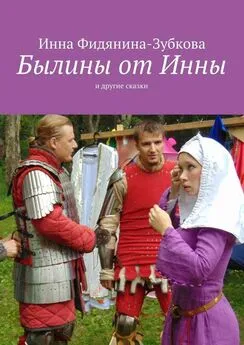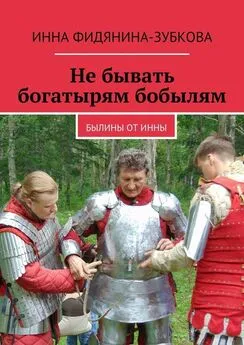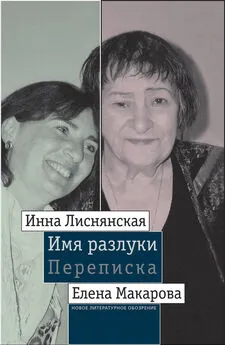Инна Лиснянская - Хвастунья
- Название:Хвастунья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Лиснянская - Хвастунья краткое содержание
«Знамя» 2006, № 1-2
Об авторе: Инна Лиснянская — поэт, прозаик, печатается в «Знамени» с 1987 года. Кроме стихов, у нас опубликованы повести «Величина и функция» (1999, № 7) и «Отдельный» (2005, № 1).
Хвастунья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А осенью того же года я еще металась меж станцией Турист и поисками заработка, хотя была восстановлена и на Курсах, и Годику разрешили временно проживать со мной в общежитии без прописки. Передачи нужно было носить Лене на всю палату. Еще я металась меж друзьями, прося каждого, нельзя ли меня прописать на их жилплощади, так как министр МВД Тикунов пообещал дать прописку, если кто-нибудь предоставит мне жилплощадь под нее, чтобы я тут же могла вступить в жилищный кооператив. Как назло, тогда в Москве было самое жесткое прописочное ужесточение. Даже моя мама и отчим, переехавшие с разросшейся семьей на Новослободскую, не имели права меня прописать, так как у них не было лишних семи метров, которые требовались в обязательном порядке для прописки пусть и ближайшего родственника. К тому же меня сбил с толку мой тогдашний друг, наивный Юра Левитанский, сказавший, что на кооперативную жилплощадь не прописывают, иначе бы он дал такое разрешение. Он, видно, как и я, не ведал, что в кооперативную квартиру — могут прописать. Поэтому к знакомым писателям, живущим в кооперативных домах, я уже не обращалась. А у остальных не было лишних метров, а у кого были, тех я не знала. А устного обещания министра МВД добился Годик через сочинителя детективных романов Ардаматского, которому в те годы не подавал руки ни один порядочный писатель. Ардаматский, напечатавший в космополитическую кампанию в журнале «Крокодил» фельетон «Пиня из Жмеринки», видимо, пытался хлопотами за прописку как-то обелить себя в глазах оттепельной общественности. Но тогда я вовсе не думала о побудительных мотивах Ардаматского, мне было уже все равно, — лишь бы нас не выслали из Москвы, лишь бы Лена не осталась в Туристе без родителей, а было много таких оставленных, ибо эта санаторная больница по своему профилю была единственной на весь Советский Союз.
Решение о закрытии Литинститута вскоре после вспышки студенческого недовольства отменили. А мне после кабинета, в который меня внес сибиряк-однокурсник, показалось, что, если даже кто-нибудь и согласится прописать меня на своей жилплощади, органы не оставят в покое, в лучшем случае, вышлют в Баку. Но для меня в тот момент это был самый худший случай. И я еще перед больницей Лены, неосмотрительно тратившая свои нервные запасы на бессмысленные доказательства, я, униженная и унижающаяся, пошла на последнее, что помогло хотя бы отцу оставаться неподалеку от дочери. Пусть я даже не буду в состоянии навещать. Нужно было добиться инвалидности 1-й группы, и я добилась, отказавшись ходить и есть, имитируя падучую. Я так вболелась в свою роль, что уже не могла из нее выйти. Опять же Годик написал ходатайство, чтобы меня положили в кремлевку, где, надо сказать, наихудшее психиатрическое отделение, — полы паркетные — врачи анкетные, но где, к счастью, раз в неделю анкетных врачей выручал консультант-светило. Под ходатайством поставили подписи несколько крупных деятелей культуры, в том числе народный художник СССР Николай Жуков, создавший портретную лениниану, и зимой 61-го, незадолго до того, как я частушки импровизировала, сделавший в Малеевке три моих портрета тушью. В кремлевке, не разобравшись, хоть я сквозь люминальную дремоту и призналась в симуляции, меня, совершенно тишайше помешанную, тридцатипятикилограммовую, отвезли в отделение для буйных, помнится, в полуподвал. И — все.
Моя последняя галлюцинация была не кошмарна, а целительна. Ко мне слетелся целый рой ангелов, и они, маленькие, с крыльями белых мотыльков, пели мне в мягком, в нейтральном свете, чуть позолоченном февральским солнцем, а я стояла и крестилась. И тут в мою одноместную палату вошла костлявая, седая, стриженная под мальчика старуха с криком: «Не православная она, православные так часто не крестятся!». Но при появлении костлявой старухи ангелы-мотыльки еще несколько мгновений не разлетались, пели, трепеща крылышками, а я продолжала креститься и просить прощенья. Я еще не могла различить, что мотыльковообразные с флейтовыми голосами ангелы — еще бред, а старуха — уже сущая реальность. Это была впавшая в старческий маразм личная секретарша Ленина, и ее, несчастную, шумно умирающую, держали здесь, в глухом отсеке буйных. Наконец секретаршу Ленина увели, и ангелы разлетелись, и мое возвращение в реальность подтвердил голос консультанта-светилы Морозова, но не того, что работал в институте Сербского и определял у инакомыслящих вялотекущую шизофрению. Этот Морозов посмотрел мне в глаза: «Ну, молодчина, глазки у нас совершенно ясные и мы на своих ножках, слава Богу, держимся. Сильная у нас головушка, мы, моя голубушка, победили люминал».
Может быть, потому и не очень люблю спектакли, что сама их, униженно, вынужденно, ничтожно, бесстыдно устраивала. Нет, ни при каких обстоятельствах жизни, ни при какой жестоковыйной власти не имеет права человек доводить себя до лишения рассудка. А в особенности — уничижать свою душу до болезни, ибо душа — принадлежит Богу. Но, наказав меня, Он меня и пожалел, и вот я, живая, и думаю в Швейцарии о «Петербургских сновидениях» по роману «Униженные и оскорбленные».
Видимо, красивому и в старости Завадскому не понравилась откровенность, с какой я отозвалась о его постановке: «Юрий Александрович, все было бы сверх всяких похвал, кабы перед началом действия вы не вещали в динамик, что Достоевский не верил в Бога и тому подобное». На объяснения Завадского: «так надо…» — я, каюсь, по-максималистски, несправедливо-высокомерно дернула плечом. А ведь такое времечко было, — вынуждало Завадского в черный квадрат динамика открещиваться от религиозности Достоевского.
А у Эфроса мы с Липкиным видели замечательные — «Женитьбу» Гоголя, «Месяц в деревне» Тургенева, а еще «Отелло». Спектакль, по-моему, иначе назывался. Мог бы называться и «Яго», сложный и подчеркнутый Эфросом современный характер которого задал шекспировской драме свежую остроту. Липкин, особенно в молодости, был театралом. А я лишь во время войны водила раненых из челюстно-лицевого госпиталя, где как раз и сорвала голос, на оперу «Евгений Онегин», которую давали аккуратно раз в неделю. В оперу ходили и тыловые генералы с генеральшами. Однажды, когда тенор-Ленский дал петуха, сразу из двух лож донеслось, как будто генеральши в кино находятся: «Звук, дайте звук!». Так что в театре я не сильная понимательница — хотя не те генеральши, и не те зрители, которые нам с Липкиным встретились в санатории Горячинска на Байкале.
…………
В 74-м и в 75-м годах Липкин переводил бурятский эпос «Гэсэр», за него ему присвоили звание заслуженного деятеля. После газеты «Московский литератор», где в 79-м, громя «Метрополь», Сергей Михалков высказался, что народы СССР подождут другого Липкина, «Гэсэр» отдали крепкому прозаику Владимиру Солоухину, но слабому стихотворному переводчику, и «Гэсэр» вышел в халтурном переложении. Но до «Метрополя» еще было далеко, и Липкина два лета подряд приглашали работать и отдыхать на берегу Байкала. Горячий источник, окруженный одноэтажными санаторскими корпусами, находился в густохвойной тайге, серооблачной от комаров. Меня, курящую, комары не слишком заедали. Но Липкина! Когда мы с ним шли к Байкалу, я, разгоняя над липкинской лысиной комаров, затягивала песню: «Вьется наша тесемочка По таежной тропе, я люблю тебя, Сёмочка, Человека в толпе».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: