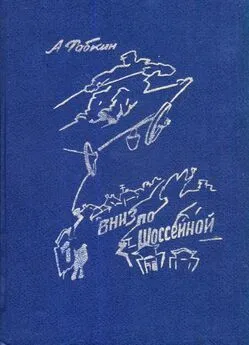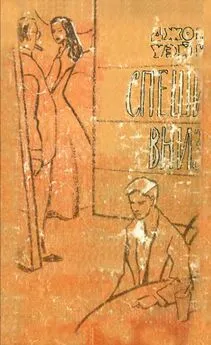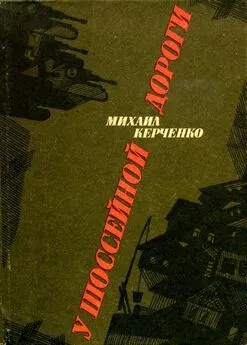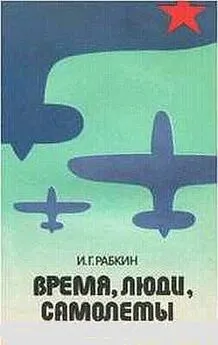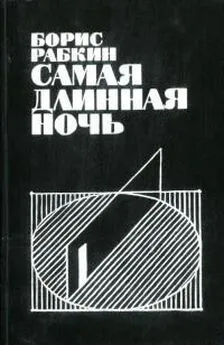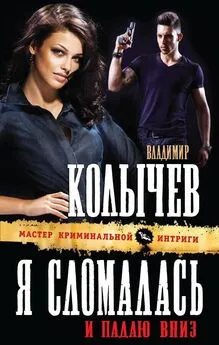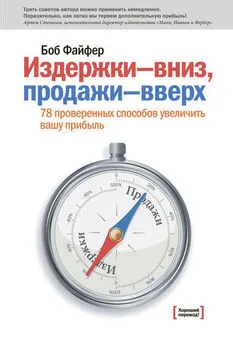Абрам Рабкин - Вниз по Шоссейной
- Название:Вниз по Шоссейной
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нева, 1997 г., №8
- Год:1997
- Город:СПб.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Рабкин - Вниз по Шоссейной краткое содержание
На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней. И неистовым букетом, согревая и утешая меня, снова зацвели маленькие домики, деревья, заборы и калитки, булыжники и печные трубы… Я вновь иду по Шоссейной, заглядываю в окна, прикасаюсь к шершавым ставням и прислушиваюсь к далеким голосам её знаменитых обитателей…» Повесть читается на одном дыхании, настолько захватывают правдивость художественного накала и её поэтичность. В ней много жизненных сцен, запоминающихся деталей, она густо населена её героями и жива их мудростью.
Вниз по Шоссейной - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но этот чуждый живому, мрачно затаившийся комплекс улегся вдоль Шоссейной, отгородился от нее непроницаемыми стенами и только ему ведомыми способами оправдывал свое государственное назначение.
Его уже перестали называть «справдомом», а горько, с какой-то болью и отвращением, называли тюрьмой. С болью потому, что уже мало оставалось домов, откуда не увели или не увезли за эти сгены в чем-то обязательно виновных людей.
И оставшиеся на свободе, обреченные на бессонные ночи, каким-то звериным чутьем догадывались, что там, за этими стенами, добиваясь нужной истины, калечат и бьют.
Я не видел, как забирали Исаака. Это было днем. Какое-то нарушение в повадках команды Зубрицкого, что-то новое в их темном, ночном, отработанном на многих арестах механизме.
Забрав моего отца, они, как вороны, кружили над ним, что-то обдумывая и решая, зачем-то совершая непонятные поступки, и наконец, избив его на допросе, вдруг разрешили передать на волю записку маме вместе с ненужной, липшей, как он писал, его одеждой и просьбой перешить ее для меня: «… передаю лишнее, мне ненужное…»
А он задумал свое. Ведь он мог не выдержать и наговорить то, что от него требовали. Но он держался и молчал или отвергал всю черную нелепость их обвинений.
И они его били.
Я не видел, как его забирали, потому что это было днем в начале сентября, в выходной день, и мы с Севкой и его отцом были на рыбалке.
Я не видел, как его забирали, но я видел, как мама и маленькая Соня, обнявшись, плакали в его комнате, где стояли моя кровать и этажерка, на которой раньше лежали старые журналы.
Они плакали, как плачут по покойнику и мама каким-то сдавленным голосом сказала:
— Вот и в наш дом пришла беда.
В середине сентября я ушел из города. Я шел искать Исаака. Я знал, что его там нет, что он в тюрьме, но я хотел быть с ним, и я внушал себе, что мы встретимся в обгоревшем лесу, недалеко от старообрядческого кладбища, на Могилевском шоссе.
Был тихий и солнечный день, и я представил, что мы идем с Исааком, что всё — как было до того страшного дня, когда его увели от нас, когда еще мрак не вошел в наши комнаты и мама улыбалась, а маленькая Соня обнимала Исаака, и он говорил ей, что она лечит его душу.
Я представлял, что мы идем вместе с ним. И поэтому я знал, что нужно пройти через нижний базар, где торговали картошкой и луком и где стояли телеги балагул и жевали овес из подвязанных мешков их украшенные лентами битюги.
Я знал, что он подошел бы к балагулам и хохотал бы вместе с ними над их солеными шутками, и они бы угостили его своим куревом, а он отдал бы им свою едва начатую коробку «Борцов».
Он, наверное, сказал бы мне, что вон тот в плоской кепке плечистый и толстоносый балагула в длинном засаленном дождевике, из-под которого выглядывает такой же красный, как его обветренное лицо, свитер, и есть Пейша Ришес — самый жилистый и живучий из бобруйских балагул, и пока он есть, никакие напасти не искоренят здоровый дух города.
Но Пейша был почему-то хмур и вроде растерян. Он был без коня и, наверное, чувствовал себя моряком, вдруг выброшенным на постную, без соли и перца сушу. Пейша был хмур и рассказывал балагулам, что у его битюга случился паралич на задние ноги и нужно покупать другую лошадку.
— И у Пейши беда, но он выплывет, — сказал бы Исаак, и мы пошли дальше…
И еще послышалось в толпе, как одна женщина утешала другую: «Подумаешь, муж! Я двоих похоронила… И хоть бы что… Могу д третьего… Если бы был».
Мы с Исааком улыбнулись.
Мы бы улыбнулись… Мы бы даже рассмеялись. И после Исаак, как анекдот, пересказывал бы слова этой утешительницы.
А потом я шел с ним мимо хлебозавода, и теплый хлебный дух сдабривал уже осенний, приправленный запахами сена и яблок воздух. И Исаак обязательно сказал бы, что нет ничего на свете лучше запаха свежего хлеба и нет прекраснее поры, чем этот задумчивый сентябрь.
Так мы шли вместе до самого деревянного моста с башенками и перилами, а потом, уже с другого берега, оглянулись на крепость. И я захотел почувствовать и сжать его руку…
Но я все равно представлял, что мы идем вместе.
Так, вместе с ним, мы перешли второй деревянный мост над затоном и оказались на обсаженной тенистыми ивами дороге, по которой весной Степка Воловик бешено гнал пожарную машину.
Здесь было ветрено, и начинающие желтеть ивы тревожно шумели. Вдруг вспомнилось, как Славин рассказывал, что ивы бывают полевые и болотные, а эти, вдоль наших дорог, — ивы-ракиты. И еще есть какая-то ива… Как называется эта еще какая-то ива?.. Нужно спросить у Славина…
Мне стало вдруг невыносимо одиноко, потому что Славин был арестован и его друг, мой Исаак, тоже был в тюрьме, и я один стоял в тени безлюдной дороги, над которой тревожно шумели ивы-ракиты.
И я понял, что не пойду туда, в обгоревший лес, потому что не встречусь там с Исааком, и горькая мысль, что все неповторимо и невозвратно, впервые посетила меня.
Я не пошел дальше, а только смотрел, как из этой тени расплавленно горят луга, как зеленое перестает быть зеленым и плавится на солнце, как сгустки ушедшего августа полыхают в осоке и стогах полнокровным жарким сплавом, и среди него вдруг изумрудно-голубые, пронзительно-синие удары болотинок, заводей и самой Березины.
Какая невероятная синь, радостная, звонкая! Но где-то, в каких-то своих потаенных глубинах и поворотах, она начинает тревожно сгущаться, мрачнеть, далеким гудком ушедшего поезда ранит сердце, и среди остановившегося сентябрьского тепла невольно чудятся клекот улетающих журавлей, звон замерзающей земли, запах дымка и падение первого снега.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Директор швейной фабрики имени Дзержинского сдержал свое торжественное слово и сшил из отходов производства новые фуражки для городских сумасшедших. Фуражки были светло-серые, с большими модными козырьками и круглыми нитяными помпонами на макушке. Правда, в связи с тем, что явка сумасшедших для снятия мерок не была обеспечена, фуражки сшили одного стандартного и, на всякий случай, большого размера.
Выдавали фуражки по списку, в который почему-то попал и великан Адам. Но Адам за фуражкой не явился. Не потому, что был обижен на то, что его внесли в этот список. Адам исчез и больше в Бобруйске не появлялся.
Наверно, никого в городе особенно не беспокоила причина исчезновения Адама. Хоть и был он великаном и заметной фигурой на базаре и пристани, как-то не до него было в это уже вплотную надвинувшееся на город Время. Больше говорили, и то шепотом, о новых арестах, раскрытых диверсиях и затаившихся за каждым углом замаскированных врагах.
Но нам, умудренным познанием прошлого, нашему не заглушенному этим боязливым шепотом слуху, нашему трезвому, проясненному болью зрению нужно побывать на бобруйском базаре в конце августа того года и увидеть в последний раз Адама.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: