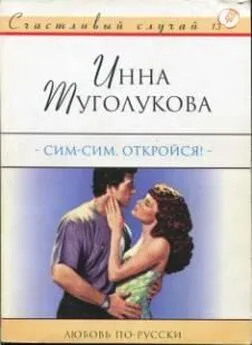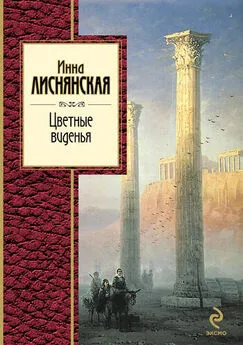Инна Лиснянская - Отдельный
- Название:Отдельный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Лиснянская - Отдельный краткое содержание
Отдельный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тарковские на недельку уехали на городскую квартиру по делам, а я на столько же — к Марии Сергеевне, которая жила в начале Хорошевского шоссе, на втором этаже двухэтажного дома, построенного пленными немцами. По настоянию Литфонда, который и пошел мне навстречу ввиду моего бездомья, я должна была делать хоть малый перерыв между двумя сроками (“сроком” называется двадцатичетырехдневное пребывание в доме творчества по путевке), чтобы не раздражать домотворческую публику. За путевки (дешево и удобно) шли бои, особенно в летнее время, а за продление срока — тем паче. И вот в очередной перерыв меж “сроками” я и гостила, как всегда, у Петровых.
Мария Сергеевна готовила на кухне свои фирменные “лапти” — длинные и плоские картофельные зразы. Зазвонил телефон, и я взяла трубку. Звонила Татьяна:
— Инна, Арсений Александрович хочет вас накормить ужином в ЦДЛ и увезти в Переделкино.
— Спасибо, Татьяна Алексеевна, но передайте мои условия: я не вернусь в Переделкино, если сегодня же Арсений Александрович не помирится с Марией Сергеевной.
— Но как это сделать? — голос Татьяны уже не был сухим, а радостно озабоченным.
— Просто, Татьяна Алексеевна, когда подъедете, гудните дважды. Как мужчина Арсений Александрович должен был бы подняться на второй этаж, но поскольку он на протезе, пусть поднимется на один пролет, а Мария Сергеевна на один пролет спустится. Она, я уверена, возражать не будет. Да, еще передайте, что площадка меж этажами — демаркационная линия, это его рассмешит.
“Демаркационная линия” рассмешила и Марию Сергеевну. Она быстренько сменила домашний халатик на юбку с кофтой, попудрилась перед зеркалом, подкрасила губы, надела платочек, повязав его на затылке (без платочка, из которого как бы росла ее негустая челка, она никого у себя не принимала и сама никуда не выходила).
Машина дважды проклаксонила, и мы с Марией Сергеевной спустились на пол-этажа. Тарковский уже поднимался. Боже, как они обнялись! Обхватили друг друга руками и долго, как мне показалось — бесконечно долго, молчали. Хрупкая Мария Петровых, по Мандельштаму, “маленьких держательница плеч”, и широкоплечий, статный Арсений Александрович.
Тарковские переселялись из Переделкина на свою дачу в Голицыне в последних числах июня. А Петровых уже, кажется с 73-го года предпочла переделкинский дом творчества голицынскому, а впоследствии и дачку снимала там же. И я знаю, что, по крайней мере, июль и август с момента замирения Тарковский и Петровых почти ежедневно виделись, обожая друг друга, виделись до самого 78-го, вплоть до страшной болезни Марии Сергеевны.
Запомнила же я время отъезда Тарковских на дачу, так как в 73–74-м годах мы отмечали наши дни рождения вместе, в буфете и в комнатах. Два дня подряд, у меня день рождения 24 июня, у Тарковского — 25-го. Нет, три дня подряд: 23 июня — день рождения Ахматовой, которую Тарковский любил, пожалуй, больше всех поэтов нашего века.
Беседы
И потому семья
У нас не без урода.
После письма Асадова насчет “объятий Морфея” мы то засиживались в холле, где впоследствии играли в шахматы, то все же оставались в номере Тарковского, стараясь говорить тихо и давясь смехом. Это касалось наших рассказов друг другу из жизни, которые он называл “смешнушками”. Но возникали и вполне серьезные разговоры о русской поэзии, рифмах, эпитетах, русском языке. Кстати, Тарковский к иностранным языкам был глух напрочь, не знал ни одного, хотя, по его словам, учился в гимназии, но даже из гимназии не вынес, например, древнегреческого и латыни. Свою неспособность к иноязыкам комментировал важно: русская речь самая великая в мире, и ею полны не только мои уши, но каждая клеточка организма.
Я постараюсь собрать в этой главе почти все, что мне запомнилось из серьезных бесед и споров, конечно же, это не означает, что мы отказывались от шуток.
Дней эдак через двенадцать после нашего первого чаепития Татьяна предложила:
— Давайте соберемся в двухместной комнате у Нины Бать (рижанка, переводчица, друг Татьяны, да и Тарковского). Пусть Инна почитает нам свои стихи, и ты, Арсюша, прочти новые.
Тарковский поддержал:
— Это было бы чудесно.
Но я-то видела, как потускнели его глаза. Я отлично его тоску поняла: было так весело, кто ее знает, чего она там пишет, еще и врать придется… Я попыталась выручить его, да и себя, отнекивалась, но Татьяна настаивала, и он с тоскливостью в глазах поддакивал ей.
Теперь уже не помню, собрались ли мы у Нины Бать или еще у кого. Я прочитала шесть или семь коротких стихотворений. После каждого Татьяна одобрительно кивала своей массивной, хорошо поставленной и ухоженной головой: замечательно, прекрасно, интересно… Остальные молчали, ожидая, видимо, одобрения мэтра. Но и после того, как я закончила чтение, Тарковский отсутствующе молчал. Татьяна, чтобы сгладить возникшую неловкость, еще говорила какие-то слова и подталкивала взглядом мужа: дескать, хоть как-то отзовись…
— Спасибо, — отозвался Арсений Александрович, а от чтения своих стихов отговорился:
— В другой раз.
Я была страшно огорчена, и не только потому, что стихи не понравились, к этому я привычная, а потому, что теперь невозможны будут такие доверительно-смешливые вечера, которые мы проводили, ведь они тогда были, может быть, единственным приютом беспечности в моей бесприютной озабоченности завтрашним днем.
К завтраку я не вышла, — я и прежде, пока не пересела за стол к Тарковским, завтракала у себя — кофе, сигареты. За час до обеда Арсений Александрович пришел ко мне со словами:
— Инна, оказывается, Липкин счастливец! Врать и изворачиваться не приходится. Вы, верно, — поэт. За вчерашнее простите! Меня уже и Таня пилила, некрасиво ведешь себя, если понравилось, чего молчал? А я думал, потому что слушал. Больше всего люблю поэтов, идущих от Баратынского. Прежде всего — мысль. Но не ею вы сильны. Чувством — да, но избавил вас Господь от задушевности. Терпеть ее не могу в поэзии. Задушевность — ложь, а в нынешней бездушности она — еще большая ложь. Но и не чувство главное у вас, а музыка, традиционная, но ни на кого не похожая, и слово дышит, а музыка редкостно русская.
— Вот и Пастернак заметил русскую музыку, выслушав три моих стихотворения, — хвастливо ввернула я.
— На самом деле и одного достаточно, чтобы понять: поэт или непоэт, — словно продолжая свой монолог, сказал Тарковский и вдруг вскинулся: — А при чем Пастернак? Его поэзия чужда мне, она вот какая: сидят бабы на завалинке, а он на велосипеде перед ними восьмерки выделывает.
Это “образное высказывание” было еще до того, как Тарковский бранил стихи Петровых, до того, когда я поняла, что он — ребенок, что, может быть, его чем-нибудь и Пастернак обидел. Мне потом только вспомнилась строка Тарковского: “как скрипку я держу свою обиду”. У меня язык окаменел, чтобы возмутиться. Я тяжело, виновато перед Пастернаком, молчала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: