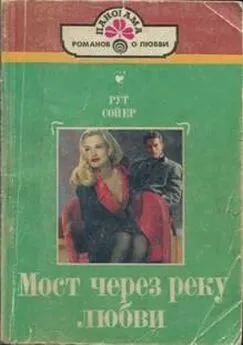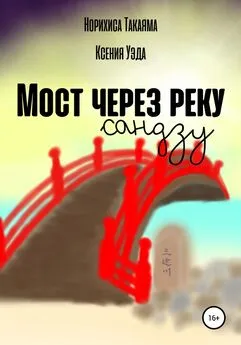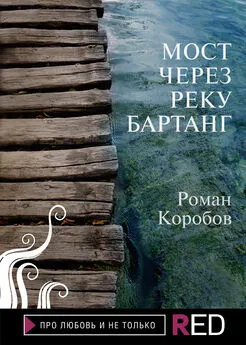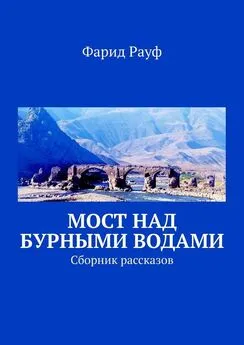Станислава Флешарова-Мускат - Мост над бурной рекой
- Название:Мост над бурной рекой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:83-215-8265-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислава Флешарова-Мускат - Мост над бурной рекой краткое содержание
Мост над бурной рекой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Это, конечно, важно, — согласилась Сибилл разочарованно.
После обеда Асман встал и, обращаясь ко всем сидящим за столом, чуть торжественно сказал:
— Благодарю вас за сегодняшний день. И приглашаю всех на свой концерт в Лос-Анджелесе в декабре, в канун Рождества. Будет исполняться Вторая симфония Малера.
— Обязательно приедем, — прошептала Сильвия Брук.
Вся группа высыпала на паркинг перед рестораном. Асман кланялся направо и налево, словно сходил со сцены, и направился прямо к машине, но на полдороге остановился и подошел к Доминике. Та обмерла.
— Я хочу поблагодарить вас за килимы.
— Ну что вы, это вам спасибо! Я так рада, что они будут у вас.
— Я повешу их в своей комнате.
— Если бы я знала, что их купите вы, я постаралась бы сделать еще красивее.
— Нет-нет, — возразил он горячо, — ваши как раз такие, какие мне хотелось иметь.
— Очень рада, — ответила Доминика. Ничего другого не приходило ей в голову, все смотрели на нее; удостоенная его внимания, она едва дышала.
— Я буду теперь следить за выставками, на которых могут появиться ваши работы.
— Боюсь, выставляться я смогу еще не скоро, — ответила Доминика в замешательстве. — Во всяком случае, до окончания учебы мне это наверняка не удастся. Даже у себя дома. — Она покраснела и оттого смутилась еще больше.
— Будем надеяться на лучшее. — Асман взял ее руку, как-то судорожно сжатую в кулачок, и быстро поцеловал. — В Польше ведь женщинам целуют ручки, не так ли?
— Теперь почти уж нет, — едва смогла она прошептать.
— Ну, тогда воскресим прежний обычай. — Он еще раз поцеловал ее сжатый кулачок и ушел.
VI
В машине Асман вздохнул с облегчением. Ночью ему хотелось общества, а теперь оно показалось обременительным, нарушающим тот внутренний душевный покой, который он обычно обретал в Испании и ради которого, собственно, сюда приезжал. Что же нарушило этот вожделенный покой? Неужели встреча с юной парой поляков, озабоченно обсуждавших в этом прекраснейшем из городов мира какую-то демонстрацию, остановленную на перекрестке улиц где-то в Варшаве? Или, быть может, для этих поляков прекраснейшим из городов мира и была эта самая Варшава?
Сам он в Варшаве никогда не был. Отец погиб довольно рано и не успел его с ней познакомить, бабушка дальше Тарнополя никуда не выезжала, а со школьной экскурсией ему лишь однажды удалось побывать только в Кракове и Закопане. Впрочем, в течение первых пятнадцати лет своей жизни, прошедших д о в е л и к о г о с т р а н с т в и я, он и не стремился выезжать из Залещиков. Этот город представлялся ему средоточием всего самого прекрасного, всех мыслимых радостей и надежд, и потому просто-напросто не существовало повода, ради которого оттуда стоило бы уезжать. Так считала и говорила бабушка, а он всегда и во всем был с ней согласен.
По воскресеньям, когда ни один магазин в городе не торговал, бабушка, покрыв голову черной шелковой шалью и — сообразно времени года — в праздничном платье или праздничном пальто, ходила с ним гулять. Правда, ее религиозным праздником была суббота, но поскольку она жила среди поляков и украинцев, а их праздником было воскресенье, то и она отмечала его вместе с ними. У костела и церкви в эти дни всегда было людно. Пани «из общества» демонстрировали здесь новые шляпки, простолюдинки — богато расшитые рукава своих кофт. Янко, костельный нищий, собирал в рваную шапку щедрые подаяния, все говорили и з н а л и, что он владелец какого-то богатого поместья, только неведомо где, а здесь лишь отбывает покаяние за убийство брата из ревности к своей жене.
И куда бы в этот день они ни направлялись гулять, мимо костела проходили обязательно: бабушке нравилось это место — сюда сходились все самые почтенные граждане города, и здесь все чинно обменивались поклонами, а бабушка тешила свое тщеславие владелицы лавки, важно принимая и тоже раздавая поклоны. Хотя вполне возможно, в это самое время она вспоминала, кто сколько ей должен, и клялась про себя не отпускать больше в кредит тем, кто в состоянии приобрести себе новую шляпку, но вернуть долг Саре Асман не торопится.
У него же во время этих прогулок наибольший интерес вызывал Янко, сидевший в лохмотьях у стены костела. Этот Янко имел, наверное, столько денег, что мог купить себе одежду самую лучшую и самую дорогую из той, которую лодзинские евреи-торговцы привозили на ежегодную праздничную ярмарку. Но он предпочитал носить свои отрепья, возможно, этого требовало покаяние, а может, лохмотья просто непременный атрибут профессионального одеяния нищего. Ведь кто бы ни подходил поближе, чтобы лучше его рассмотреть и убедиться, жив ли он еще под ворохом своего тряпья с копной никогда не стриженных волос и лохматой бороды, непременно бросал монету в лежавшую на земле шапку. Каждое воскресенье в нее попадали и пять грошей Сары Асман. Он всегда просил бабушку разрешить ему самому отнести подаяние и, до жути боясь нищего, дрожа от ужаса и волнения, шел к нему, испытывая чувство гадливости и любопытства.
— Не гляди на него так, — говорила бабушка, — а то он наведет на тебя порчу.
Он не знал, что такое «порча», и оттого боялся еще больше и еще больше ему хотелось увидеть способные «навести порчу» глаза Янко. Но бабушка оттаскивала его за руку, и, выбравшись из толпы перед костелом, они шли дальше, иногда в сторону «Сокола» и вокзала, чтобы посмотреть — если дело происходило летом — на приезжавших и отъезжавших курортников, иногда — к особняку барона и дальше, к мосту, разрушенному еще во время первой мировой войны и восстановленному только перед началом второй, а иногда — и туда они ходили чаще всего — на киркут, еврейское кладбище, на сланцевой скале над солнечным пляжем.
Здесь, на кладбище, бабушка всегда горько плакала.
Он не пытался ее утешать, зная, что каждый раз после таких слез бабушка уходила с дорогих ей могил как бы умиротворенная и утешенная надеждой, что место под каменным надгробием на высокой скале над Днестром с видом на румынский сахарный завод — это все-таки некая ясная перспектива, сулящая в будущем несуетный покой без налогов и без долгов, никогда не возвращаемых покупателями ее лавки. Испрашивала она здесь и разные мудрые советы у отца, до тонкостей разбиравшегося в торговле, или у мужа, вовсе в ней не разбиравшегося, но зато имевшего доброе еврейское сердце, при одном воспоминании о котором смягчалось ее собственное, когда ей казалось, что оно слишком ожесточилось и очерствело в неустанной борьбе за деньги. «Папочка, — говорила она, — разве я должна иметь в своей лавке только самый перший сорт? Не те теперь времена. Если у людей нет денег и они хотят брать в кредит, то из-за этого першего сорта мне больше убытков, чем прибытков. Я таки знаю, папочка, знаю: если бы Сара Асман не держала в своей лавке все самое лучшее, что есть на белом свете, ко мне не присылали бы за покупками своих кухарок пан староста, пан бургомистр, пан аптекарь и пан доктор Садко, пан адвокат Левенфиш, у которого жена ест только кошерное, будто какая-нибудь принцесса, и еще пан судья и пан повятовый архитектор, ксендз, поп и раввин, пан директор школы, пан директор гимназии и пан директор семинарии и даже сам полицмейстер. Если бы в лавке Сары Асман не водилось все самое лучшее, к ней не приходили бы знатные паненки за шоколадом, халвой, фисташками и сладкими рожками, не приходили бы молодые паны за папиросами и пльзенским пивом, румынские офицеры — за кофе, когда им не завезли его из Черновиц. Все это чудно, папочка. Человек рад, когда у него есть такая лавка — лучшая во всем городе. Но спрашивается: что я с этого имею? Если даже один паршивец берет в кредит и не возвращает долг, весь гешефт идет прахом. А таких паршивцев много. Но с ними я бы еще управилась. А что делать, когда приходят те, кто, я знаю, никогда не сможет заплатить — вся эта польская, еврейская и русская голытьба, что смотрит на полки и перебирает в кармане свои последние медяки. Что я могу поделать, когда приходит Самуильчик Блюменблау?..» О Самуильчике бабушка разговаривала уже не с отцом, а с мужем, Ароном Асманом, имевшим такое доброе, что даже больное от этой доброты, сердце. «Арон, — говорила она, — что я могу поделать, когда приходит Самуильчик Блюменблау? Он встает на пороге лавки, не закрывая даже дверь, словно хочет тут же убежать, а его испуганные огромные глазенки как две сливины, кажется, вот-вот оросятся дождем, и он не может выговорить ни слова, так дрожат у него губы и подбородок. Какой же это гешефт, если я д о л ж н а давать ему и муку, и сахар, и селедку. Спрашивается, почему? Какое мне дело, что этот негодник портной Блюменблау что ни год делает ребенка своей трахомной забитой жене? При чем тут я? Почему я должна переживать за этих несчастных сопляков и думать ночами напролет, что мой добрый Арон перевернется в гробу, если я хоть раз отправлю этого сморкатого Самуильчика с пустыми руками».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
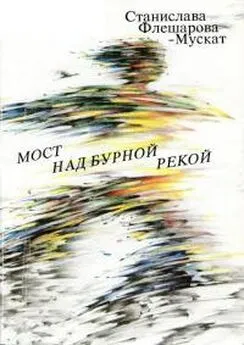
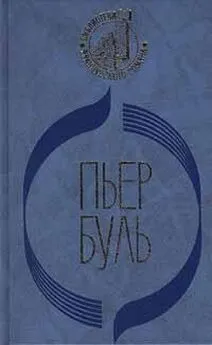

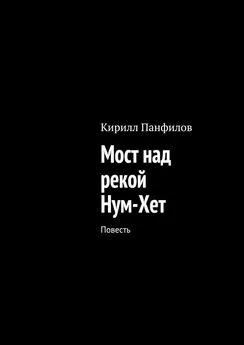
![Ольга Богатикова - На Калиновом мосту над рекой Смородинкой [СИ]](/books/1069923/olga-bogatikova-na-kalinovom-mostu-nad-rekoj-smor.webp)