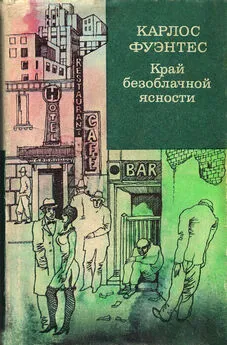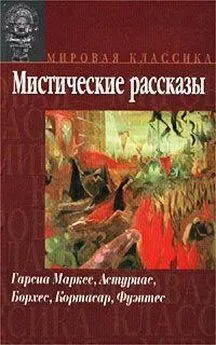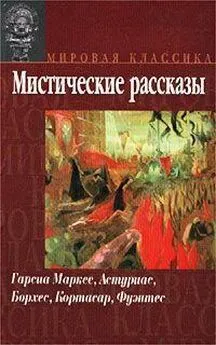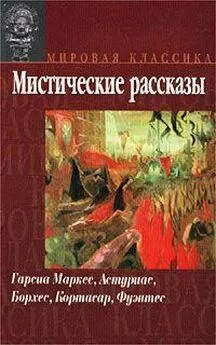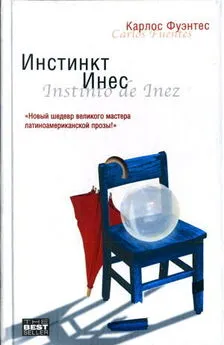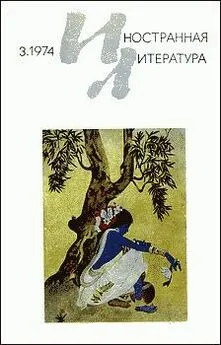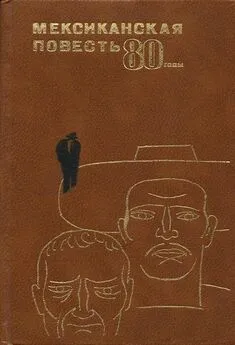Карлос Фуэнтес - Край безоблачной ясности
- Название:Край безоблачной ясности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карлос Фуэнтес - Край безоблачной ясности краткое содержание
Край безоблачной ясности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Мой сын, мой сын!
— Вы никогда не говорили ему всю правду, все, что вы думали? Вы хотели, чтобы Родриго сам все понял? — спросил Икска Сьенфуэгос.
— Да, я так хотела
потому что не могла мельчить, опошлять все то, что составляло мой мир, вы понимаете? (в моем мире и без того уже измельчало все, что можно потрогать и измерить, и я не могла еще больше принижать его, вытаскивая на свет то, что я думаю, ведь прежде отношения были ясны без слов, ведь все, во что верили в нашем доме, все, что считали правильным мои родители, братья и я, разумелось само собой, и нам не приходилось оправдываться, просить прощения за то, что мы делали и чувствовали, за нашу семейную жизнь и наше положение — то и другое оправдывалось самим порядком вещей, и так должно было быть и теперь, только теперь у меня была вульгарная работа, вульгарная квартира, вульгарная одежда; я не могла допустить, чтобы эта вульгарность распространилась на мою душу, на мои слова и на жизнь, которую я передам сыну), но его отчужденность заставила меня снова искать Гервасио, однако, подобно тому, как Родриго заставил меня увидеть, что я уже не та, что раньше, он заставил меня увидеть другим и Гервасио, и у меня изгладилось все, что я поддерживала в себе до сих пор, — обида, еще теплившееся воспоминание о его теле, комплекс отца-сына, неудовлетворенная потребность разделить с ним смерть, с тем, чтобы он разделил со мной роды, и таким образом соединиться с ним в смерти и родах, в родах и смерти, и теперь, в часы, которые поглощала моя серая и однообразная работа, не доставлявшая никакого удовлетворения, — ведь работа может быть такой же праздничной, как праздность, но это не такая работа, сеньор Сьенфуэгос, она лишена всякой радости, всякого интереса, — я научилась упрекать Гервасио в другом, в том, что не имело никакого отношения к нашей истории, к нашим совокуплениям и к их плоду, а касалось только новой жизни, нового города, который рос вокруг меня, и новых людей, тех, которые заняли покинутые места, и из этой превратной действительности (из этого окружения, чуждого всему нашему опыту и нашему личному искусу в любви, смерти, жизни, зачатии) вышел новый Гервасио, которого я была вправе упрекать, а этот новый образ определил судьбу, которую я предназначала Родриго: другое, настоящее, то, о чем я только что говорила (мою подлинную жизнь), засосала обыденность, и мне пришлось измышлять новые мотивы и новые отношения, и это я понимаю только теперь, когда я уже одинока (но нет, не одиночество заставляет меня отдать себе в этом отчет и не приближение смерти, а что-то другое), и я вам так и говорю. К этому времени уже прошло десять лет с момента смерти Гервасио, и я опять стала сравнивать мою внешность с той, какая у меня была в те дни. Я брала фотографию мужа (она висела у изголовья моей ледяной постели, в которой прошло мое вдовство, потому что рано или поздно перестаешь быть вдовой, перестаешь вспоминать, что в свое время нечто вторглось в твою плоть с такой беззастенчивостью и с такой напряженной силой, но, если говорить о Гервасио, в то же время и с деликатностью, на которую не всякий способен: он был добр, теперь, хоть и слишком поздно, я это понимаю, добр и великодушен, а такие качества от нас ускользают, потому что мы все усложняем и не хотим принимать вещи такими, как они есть, какими были изначально и какими должны неизменно оставаться, достойные самого бережного внимания, которое им может обеспечить только одно: доброта, великодушие) и, подойдя с ней к зеркалу, поднимала ее на уровень моего лица и думала, что теперь я выгляжу его матерью, и укоряла его словами, которые исходили не от меня, а от моей безрадостной работы, от города и новых людей, от всего, что омрачало мне душу Умер ли ты или пропал без вести, ты навсегда остался таким, как был: тридцатилетний мечтатель, ринувшийся в битву во имя высоких идеалов, ты уже не станешь никем иным, а разве ты не понимаешь, Гервасио, что мужчина не может следовать своему призванию, когда он должен кормить жену и ребенка? Мечтатель, мечтатель, расстрелянный в тюрьме, сегодня, десять лет спустя, ты мог бы быть богатым (и я опускала руку и вспоминала нуворишей, приходивших в магазин покупать обстановку для новых домов в новых районах, где селились все те, кто не умер в тюрьме Белен, те, кто нахлынули бесстыдной толпой, и, те, кто сумели приспособиться к новым временам), и ты, Гервасио, не имел права ставить себя под удар; ты должен был беречь себя, как все эти люди, которые теперь стали богатыми и влиятельными. Ты не подумал ни обо мне, ни о твоем сыне; ты оставил меня сохнуть в одиночестве; я хотела бы простить тебя, Гервасио, но не могу, ты не дал мне ни любви, ни того немногого, что необходимо, чтобы жить в довольстве. Но я добьюсь (это была ложь, это была ложь, родившаяся из моего упрека, и я знаю это теперь, когда уже поздно, скажите же бедному мальчику, скажите ему, пока не стало слишком поздно и для него, что в этой стране нет ни побед, ни поражений, что люди проходят по этой земле, не оставляя следа, что все здесь были и будут призраками, все помимо своей воли еще до рождения обречены на это, потому что, в сущности, Мексика живет лишь призрачной жизнью, и лишь непрерывные, не имеющие исхода битвы призраков скрываются за той возней в пыли, в которой гибнут наши индивидуальности; скажите это ему), чтобы твой сын победил, как побеждают здесь. Я согну его в бараний рог, но заставлю сделать карьеру, научу заискивать перед власть имущими и угождать им, чтобы его не поставили к стенке, как тебя, и чтобы он сумел обеспечить нормальную жизнь женщине, которую выберет, и присутствовал при появлении на свет своего сына…
— …стакан, сеньор, стакан с тумбочки, скорее…
Икска одним движением протянул руку за стаканом и поднес его к прозрачным губам старухи с иссушенной кожей, похожей на луковую шелуху. Простертая на кровати с латунными спинками, она издавала стонущие, хриплые, нечленораздельные звуки, и глаза ее без конца меняли выражение по мере того, как в ее мозгу стремительным потоком проносились непроизнесенные слова и невыразимые мысли. Росенда отпила глоток серой, мутной жидкости, и у нее заходил кадык между дрожащими жилами:
— Вы меня понимаете?
но я не могла опуститься до вульгарности, вы меня понимаете? и не могла сказать это ребенку, а могла сказать только портрету его отца (потому что в глубинах моих восприятий и воспоминаний они продолжали отождествляться, и для меня по-прежнему сливались воедино совокупление и роды, подобно тому, как в рассветной мути сливаются звезды и оба лика луны), потому что ребенок был в школе лишь предметом насмешек и с каждым днем все больше прятался в своей комнате, а я, сидя внизу за вязаньем, во власти моей лжи старалась угадать, что он делает, и, подходя к двери его комнаты, ждала, не послышится ли какой-нибудь шум, и думала о том, что он уже большой, что ему уже тринадцатый год, а в этом возрасте начинаются искушения; о том, что нужно поговорить с ним о его отце (неудачнике), чтобы он понял что к чему и не тратил времени даром (Гервасио, собиралась я сказать ему, только наговорил мне красивых фраз, а потом дал себя убить), и ложь кричала во мне: не хочу, чтобы Родриго пошел по его стопам! Он должен выйти в люди, и, во власти лжи, исходя из лжи, отталкиваясь от моей томительно однообразной работы и моего безрадостного прозябания в городе, где я чувствовала себя изгнанницей, — а ведь когда-то он был моим, когда-то в нем сосредоточивалась наша мирная домашняя жизнь, которая рухнула в один миг, сменившись мучительным сплетением любви, заброшенности, вдовства, — и жаждя (зачем, зачем существует такая жестокая любовь, так нуждающаяся в разрушении для того, чтобы сохраняться, такая строгая к естественным слабостям детей, так жаждущая засосать в чрево ребенка, который от нас ускользает?), чтобы он был моим, только моим, я решилась сказать ему, что его отец был подлец и глупец, который выдал своих товарищей, подлец, оставивший нас в нищете; так я и сказала ему, но он только спросил меня, хорошо ли Гервасио относился ко мне, а я уже потеряла (в моей одинокой постели, в мои вдовьи ночи и служебные дни) истину, которая (как я вам сказала) заключалась только в доброте и великодушии Гервасио, моего мечтателя, моего глупца, моего труса, моего ребенка, моего мужа… И я приписывала насмешкам богатых однокашников Родриго, а не моей любви (той любви, о которой я вам говорю) его молчание, его отчужденность по отношению ко мне, возникшую с того вечера, когда я заговорила с ним о его отце, его душевное состояние, делавшее для него невозможным более составлять, хотя бы так, как прежде (посредством связей, сотканных из открытых и смущенных взглядов, из красноречивого молчания) одно целое со мной, с моими убеждениями, моими воспоминаниями и моими скромными, скромными стремлениями: отныне ни мне, ни ему не суждено было больше знать (я, как раньше, употребила слово «знать»), чем живет другой. Его изуродовали в школе, говорила я себе, мы не богаты, и над ним насмехаются, и это лишило его дерзости, необходимой для того, чтобы побеждать; его заставили прятаться в своей комнате и писать вместо того, чтобы думать обо всем том, что ему надо сделать (и чего не сделал его отец; надо выдержать; все пошли далеко; Кальес был школьным учителем). И Родриго рос, а я все больше погрязала во лжи; он был уже взрослый (у него появились другие желания), приближался чреватый опасностью момент, когда выбирают жизненный путь, и я дрожала над ним — сидя в своем плетеном кресле, безмолвно повторяла ему, хотя он никогда не слушал меня, как я боюсь, что он не выбьется в люди из-за того, что в доме нет мужчины, и после полуночи тихо входила в комнату, где он писал и потихоньку начинал курить и где в это время он спал, и, встав на колени у его изголовья, широко раскрытыми глазами смотрела на него и говорила ему, что он уже не ребенок и все такое прочее, и поправляла его подушку, а он спал беспокойным сном и поворачивал голову, когда мои слова тихим эхом отзывались в его сновиденье. Это была ворожба, еще одна ворожба, не давшая результатов: он удалялся под влиянием богемной компании своих новых друзей (мы знаем, сеньор, что они не любят наших детей, что они сходятся для того, чтобы забыть о нас, чтобы потешить себя иллюзией самостоятельности, а в конце концов остаются одинокими, как остался одиноким он)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: