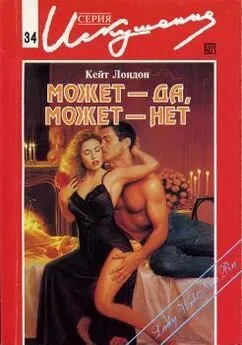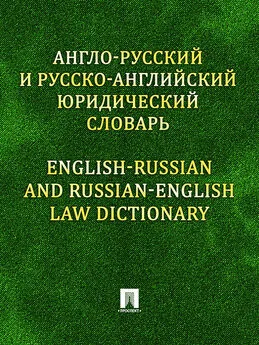Витомил Зупан - Левитан [Роман, а может, и нет]
- Название:Левитан [Роман, а может, и нет]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лингвистика
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91922-022-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Витомил Зупан - Левитан [Роман, а может, и нет] краткое содержание
Автобиографический роман Зупана выполняет особые функции исторического свидетельства и общественного исследования. Главный герой, Якоб Левитан, каждый день вынужден был сдавать экзамены на стойкость, веру в себя, честь. Итогом учебы в «тюремных университетах» стало полное внутреннее освобождение героя, познавшего подлинную свободу духа.
Левитан [Роман, а может, и нет] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Столяр, осужденный за то, что придушил девочку, грозившую, что заявит на него, потому что он ее изнасиловал, вырезал мундштук для сигарет из дощечки, оторванной от окна, в виде голой женщины с отличными грудями и красивой фигуристой задницей, вот только ноги, руки и лицо ему не очень-то удались, потом я видел много изделий такого сорта, гораздо более красивых — и у всех у них дырочка для рта была в ногах, а отверстие для сигареты там, где такое отверстие в природе и находится. От сигарет оно увеличивается и чернеет.
Тогда столяр мне показался достаточно искусным. Я еще не знал о возможностях арестов, когда можно сделать женщину-куклу в настоящую величину, красиво раскрасить ее, роскошно одеть и обуть, сделать ей волосы на голове и в паху — и, конечно, ее использовать. Большим мастером был и один резчик, позже изготовивший мне отличную гитару, которую я достаточно долго прятал под постелью. Потом кто-то донес на меня, и меня обыскали. Ушли книги, ушла гитара. Книги, потому что я писал между строчек. А гитара, потому что не разрешено. Того тюремного офицера, уносившего мои сокровища, я спросил, можно ли рассказать ему сказку из греческой мифологии. Я рассказал ему об Орфее, который так хорошо играл на лютне, что дикие звери, укрощенные, приходили его послушать. Тот только произнес: «Не думайте, Левитан, что я вас не понял!»
Дни тянутся, ночи выматывают человека, и именно тогда, когда, измученный, ты бы крепче всего уснул, ты должен еще до рассвета встать. Что-то злое есть в этом шаблонно устроенном конвейере — «поскольку в КИД (это карательно-исправительный дом) никто не хотел», параллельно что-то учиняют те надзиратели, которым все это доставляет особую радость, некоторые из них проявляют себя так, что становятся настоящим мифом. Об остальном позаботятся сокамерники.
Да и в самом человеке есть какая-то несчастная жилка пессимизма, которую не может он искоренить, — и та любит обернуться против него самого. Иногда ты только начинаешь плыть по течению, свыкнешься, и вдруг даже собственные сны восстают против тебя. И тебе снится, что ты на свободе, а просыпаешься ты в этом гербарии. Иногда во сне ты даже засомневаешься, а правда ли это (особенно спустя годы и годы каторги), не хочешь верить, во сне ущипнешь себя за ногу — а ведь правда! А потом пробуждение, как проклятое сумасшествие, и день этот — абсолютное несчастье. Когда человека долгие годы спустя выпускают, с ним случается, что снится ему то же — и он во сне также не дает «ослепить» себя. Пробуждаясь — и видя, что действительно на свободе, — он думает, и это те же проклятые сны. Так же и в войну мы желали ее конца, он снился нам, то мы видели его перед собой, то сомневались, наступит ли он когда-нибудь. Когда я почти год был смертельно болен, в этих карцерах я подхватил туберкулез, и все было против выздоровления — еда, воздух, состояние нервов, — но я боролся со смертью, и мне снилось выздоровление. Но все прочие сны не такие, как сны о свободе.
Влияние тюрьмы на внутренний мир человека абсолютно своеобразно, его нельзя сравнить ни с одним другим состоянием. Жгучее желание. Икаровы взлеты и падения надежды, постоянное унижение — все это испепеляет человека, гигантская серая птица безвременья всаживает свои когти в его тело и душу. Все пошло прахом — желания и цели, которые человек ставил перед собой в жизни. Все абсолютно противоположно нуждам цивилизованного человека. Тяжело удержаться на краю пропасти, именуемой сумасшествием, и не провалиться в нее. Но я расскажу вам еще кое-что, что вам на первый взгляд покажется абсолютно противоестественным: человек свою тюрьму может даже… полюбить и спустя долгие годы, проведенные на свободе, на какое-то мгновение почувствовать легкую ностальгию по ней. Конечно, в этом есть что-то от условного рефлекса. Но когда я в такой момент — уже гораздо позже — замер, пораженный самим собой, я понял, что человек в подобные моменты слабости чувствует ностальгию по состоянию противления, ясности и внутренней силы, без которых невозможно перед самим собой «защитить тюремный диплом».
Нас начали распределять по корпусам. Я снова оказался в «первом одиночном», только в другой камере. Здесь были две койки, одна над другой, и три тюфяка. А главный чистильщик — очень умный босниец, сделавший мне много добра, Расим, осужденный на двадцать лет за принадлежность к «мусульманским братьям» во время службы в армии. Такой, каким его воспитали дома, в армии он не хотел есть пищу из котла, потому что она была приготовлена на свином жире, запрещенном Пророком. Он считал меня своим, потому что я немного умел писать по-арабски и знал первую суру Корана наизусть.
В камеру попали еще тот столяр, удавивший девочку, и тот парень, зарезавший невесту, — он спал на тюфяке на полу. С обоими можно было вполне хорошо уживаться, тем более что вскоре они стали днем ходить на работу в тюремные мастерские, что было хорошо со многих сторон: прежде всего, днем меня никто не беспокоил, а вечером я слушал новости «из большого света», и к тому же они много чего тайком пронесли в камеру. То время я назвал бы одним из лучших, если бы не было в корпусе надзирателя Пшеницы.
Пшеница родом был из маленькой деревни на Красе. И насколько красовцы — полные жизни люди, этот черноволосый черный пессимист был исключением. Его униформа надзирателя был выглажена и переделана как-то так, что выглядела почти как офицерская. С заключенными он не разговаривал, возражений не терпел, даже по отношению к своим коллегам вел себя несколько высокомерно. За любую малость он отправлял заключенных на рапорт к начальнику тюрьмы, где сыпались наказания, запреты посылок, почты, свиданий, прогулок и, конечно, карцер. Он любил позвать какого-нибудь пугливого арестанта в комнату надзирателя, запугать его, обругать, даже надавать пощечин. У всех в корпусе он вызывал постоянное неприятное чувство, потому что всегда выдумывал что-нибудь, чтобы была возможность проявить собственную властность. В Италии во время войны, говорят, он служил в Абиссинии. Он был муссолиниевская camicia nera — «черная рубашка». Волосы у него были густо намазаны помадой, и за ним развивался ароматный шлейф, будто за какой-нибудь дамочкой с плоховатым вкусом к парфюму и скромным бюджетом. Я посвящаю ему чуть больше места, потому что он стал одной из легенд о дьяволе. Мы с ним схлестнулись сразу же в первый день. Собственно — с первого взгляда. И уже я стоял на вечернем рапорте. Столяр был старшим по комнате, и после ужина мы должны были выстроиться в камере в ряд, надзиратель пришел с блокнотом, старший должен был прокричать: «Господин надзиратель, комната номер (такой-то и такой-то), три человека». Надзиратель нас пересчитывал и записывал количество в блокнот. При этом, естественно, нужно было стоять «смирно», руки по швам брюк, взгляд на надзирателя и так далее. С каким-нибудь «хорошим надзирателем» это происходило более по-домашнему. Брезник нам обязательно после доклада желал «доброй ночи». Но Пшеница показал на меня и спросил: «Как надо стоять? Так? Отправляемся на рапорт. Если это повторится — старший тоже идет на рапорт!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Витомил Зупан - Левитан [Роман, а может, и нет]](/books/1101257/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net.webp)