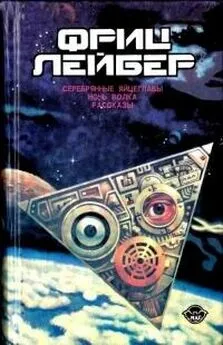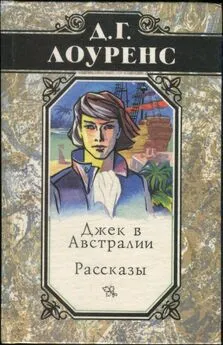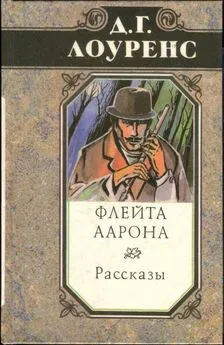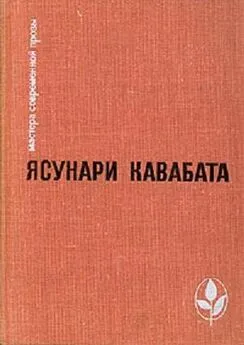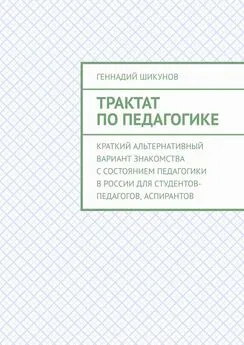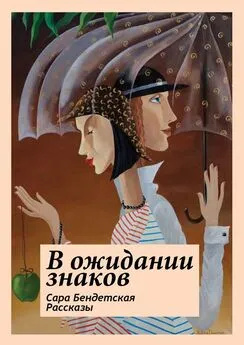Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]
- Название:Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы] краткое содержание
Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Объективная действительность в романе описана так, будто время не в силах пробиться сквозь ее окаменелость. Огромный собор на площади Эворы, несмотря ни на что, остается прежним — он стоит далеко от дороги Истории величественным символом веков, в которые якобы ничего существенного не случается. Вспомните серию картин Моне: готический собор в разное время суток. Желтый цвет солнца или синева сумерек как бы пронизывают насквозь его каменное бытие, заставляют двигаться во времени. А собор в Эворе — центральная метафора романа — воплощает вечность, являющуюся фоном для всего преходящего. Вечное рассматривается здесь с негативной точки зрения, вечное — это смерть. Картины смерти повторяются, пересекая действие романа, возвращаясь, покрывая все своей тенью.
Первые сцены: Алберто знакомится с Эворой — вместилищем выдохшегося прошлого — и вспоминает о недавней смерти отца и непостижимой абсурдности этой смерти. Отец умер за общим столом, в тот момент, когда хотел что-то сказать, ушел буквально посреди фразы: он, со всем своим сложнейшим внутренним миром, личным своеобразием, со своими надеждами, существовал в то время, когда произносил первую половину фразы, — и все, что в нем было, навсегда исчезло, когда фраза вдруг прервалась. Куда же девалось все богатство человеческого содержания, жизнь человеческого духа? Герой романа ни в какое посмертное существование сознания не верит — но тем более абсурдной кажется ему непреложность самого факта смерти.
Во время загородной прогулки Алберто познакомился с крестьянином, постаревшим, обессиленным, хотя еще полным жажды жизни и труда, а на обратном пути узнал, что тот повесился — не согласился жить, когда руки его, оплодотворявшие землю, стали больше никому не нужны.
Затем, в поворотном месте романа, — чудовищная в своей бессмысленности смерть Кристины, соединившей трогательную наивность ребенка с многообещающим и уже поражающим своею силою музыкальным даром. Эту смерть невольно сравниваешь со смертью «чудесного ребенка» — Непомука — в «Докторе Фаустусе» Т. Манна, которая убила надежду и поселила ужас отчаяния в душе гениального композитора Леверкюна. Тема страданий и гибели невинных детей не раз соприкасалась с темой оправдания бога — во всем трагизме звучит этот мотив в словах Ивана Карамазова о мальчике, затравленном собаками. У Феррейры гибель ребенка от ужасающей случайности связывается не с оправданием бога, а с вопросом о смысле человеческого бытия.
А в конце романа мы узнаем о смерти Софии, этого воплощения жизни и страсти. Следует упомянуть и превосходно написанную историю приблудной собаки с ее «сочувствующим» человечьим взглядом, погубленной равнодушными руками. Смерть эта потрясла совсем еще юного Алберто, навсегда запечатлевшись в его сознании.
Череда смертей важна также ритмической своей ролью — она подобна тяжелой поступи Командора. Прием повторяемости принадлежит к существенным чертам всего искусства Феррейры. Невольно вспоминаешь о Чехове, который прозу жизни вмещал в музыкальное время — музыкальное в самом точном значении слова. У него движение содержания было неотделимо от повторов, ритма, циклов, в которых, несмотря на их сходство, содержание развертывается и приходит к идее целого. (Классический пример: «Душечка».) Не знаю, можно ли говорить здесь о влиянии Чехова, но повторения самого различного вида, вплоть до настойчивого повторения отдельной реплики или даже гипнотизирующего повторения отдельного слова, играют чрезвычайную роль в романах Феррейры.
В этой книге читатель найдет три романа, которые при всем их сходстве значительно друг от друга отличаются. Сходство в том, что во всех трех значение эпического элемента ослаблено и в центр поставлена субъективная жизнь героя. Оно, далее, в том, что внутренняя работа героя сосредоточена вокруг философских вопросов об оправдании жизненных ценностей перед лицом смерти, перед абсурдностью смерти. Герои всех трех романов отвергли бога, но вопрос о бытии отдельной личности в обезбоженном мире остается во многом неясным: на что личность имеет право, на что может претендовать, на что опереться, какие границы ей поставлены? Нетрудно заметить, что точка зрения героев Феррейры близка к французскому экзистенциализму.
Действительно, экзистенциализм, а вернее, этические взгляды Камю и Сартра оказали заметное влияние на Феррейру, на формирование его как художника, обусловили тот ракурс, в котором он видит мир и место человека в нем. Примечательно, что сам Вержилио Феррейра в статье «Экзистенциализм», написанной для сборника «Значительные явления современной литературы», признавался: «Я никогда не считал себя экзистенциалистом, хотя многим ему обязан и не раз публично высказывал свой интерес к этому направлению». Здесь необходимо иметь в виду, что в условиях салазаровской диктатуры, когда личность стиралась, обесценивалась, резкая постановка вопроса о самостоятельности и своеобразии ее духовного мира приобретала живую ценность. Французский экзистенциализм, в котором опыт Сопротивления сформировал внимание к самым острым социально-этическим вопросам современности, заявивший о себе «прежде всего как философия духовного выживания, сохранения внутренней независимости по отношению к кризисному, застойному, деградирующему обществу» [2] Э. Ю. Соловьев. Экзистенциализм и франкфуртская школа. — «Вопросы философии», 1975, № 4, с. 69.
, для многих португальских писателей стал формой протеста против жесточайшего давления со стороны тоталитарного государства. Как литературное направление экзистенциализм почти не встречается в португальской художественной прозе, но влияние его испытали Вержилио Феррейра, Жозе Кардозо Пирес, Агустина Беса Луис, Фернанда Ботельо и многие другие. В сложной и противоречивой системе идей французского экзистенциализма для них на первый план выдвигались проблемы свободы и полной человеческой независимости от какого-либо принуждения, от власти обстоятельств.
Именно об этом писал Феррейра в уже цитировавшейся статье: «Когда все, начиная с политической системы и кончая техникой, стремится поглотить человека, подчинить его, во времена, когда жизнь отдельного индивида ничего не стоит, экзистенциализм поднимает голос протеста, заявляя, что личность человека сама по себе представляет ценность, что свобода — во всех ее проявлениях — не только неизмеримое богатство, но и структурная потребность личности, без которой та не может существовать».
Без такого авторского пояснения многое в романах Феррейры кажется непонятным или надуманным. Феррейра дает своему герою познать себя, опираясь на утверждение Сартра о самоценности личности. Но это не перепев, не механический перенос явлений другой культуры. Нет, здесь мы имеем дело с подлинностью усвоения, таким переживанием идей, когда они становятся своими, становятся фактом национальной культуры. Алберто Соарес, осмеливаясь называть простую мысль о «явлении личности собственному „я“», о бесстрашном смотрении внутрь себя, идеей революционной, конечно же, хватал через край, но мысль эта все же могла потревожить и разбудить спящие души в салазаровской Португалии и потому была необходима. В своих учениках Алберто стремился пробудить самостоятельное мышление, заставлял заглянуть в самих себя, содействовал формированию индивидуальности. Последовал деликатный выговор ректора: официально такие методы не запрещены, но будет гораздо лучше, если все останется, как прежде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/1101407/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados.webp)

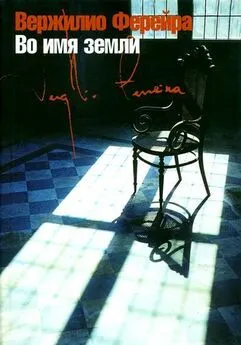
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/379623/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)