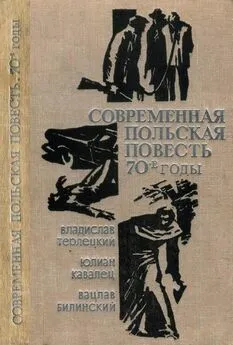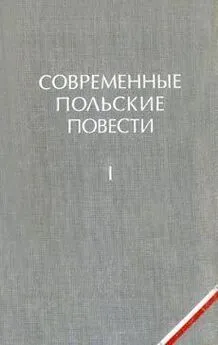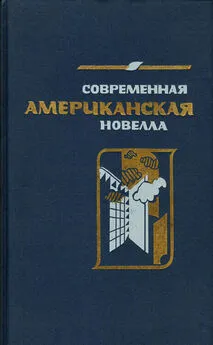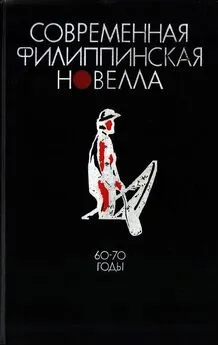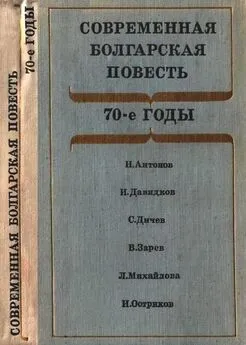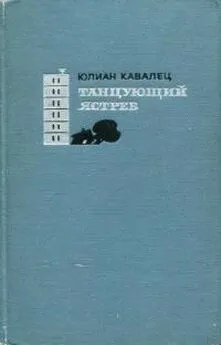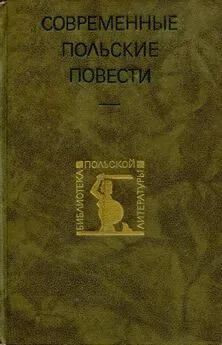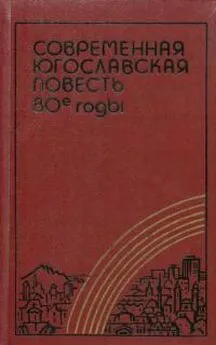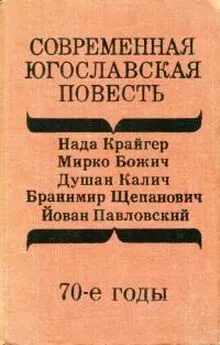Юлиан Кавалец - Современная польская повесть: 70-е годы
- Название:Современная польская повесть: 70-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлиан Кавалец - Современная польская повесть: 70-е годы краткое содержание
Открывает книгу интересная психологическая повесть «Отдохни после бега» талантливого прозаика среднего поколения Владислава Терлецкого. Полна драматизма повесть «Серый нимб» Юлиана Кавальца, рассказывающая об убийстве сельского активиста при разделе помещичьей земли. В «Катастрофе» Вацлава Билинского ставятся важные вопросы ответственности человека, строителя социалистической Польши, за свои решения и поступки.
Современная польская повесть: 70-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Зарыхта снова тянется к книге, которую взял с полки в квартире Ванды. Он не может заставить себя читать романы, его раздражает надуманность ситуаций, искусственность, как ему кажется, литературных героев. Не выносит и мемуаров о своей эпохе. Тут его бесит чрезмерный эгоцентризм, умалчивания, перебор в красках. Охотнее всего он читает философские эссе, вроде этого томика, который свистнул у дочери. Когда-то вечная, захватывающая дух гонка не оставляла времени на чтение. Теперь есть время.
Закладка между страницами и подчеркнутый красным карандашом абзац: «Человек должен жить так, как если бы следующая его минута была последней».
Легко это написать, — думает Зарыхта. — Человек должен… В неустанной борьбе, метаниях, нанося и получая удары. Инстинкт самосохранения. Воля к борьбе. Желание выжить. И философия — как тренер в углу ринга. Наблюдает. Иногда советует. Разве трудно написать: человек должен? Боже мой, чего мы только не требуем от человека? Например, чего я ожидал от Барыцкого на этом собрании в 1970 году? И опять Зарыхта думает о Барыцком. Пестрый, осенний вроцлавский парк 1945 года, госпитальный халат Янека, его словно бы испуганные глаза на осунувшемся лицо — он выглядел романтично, и Ханна взирала на него вожделенным взглядом. Она была еще так молода.
И время было молодое, послевоенное, 1945 год, прямо-таки по-ребячьи наивное, вопреки пережитым ужасам и накалу политических страстей. Мы еще, собственно, ничего не знали о сложностях бытия. Ожившая в памяти давнишняя лирическая картинка вдруг напоминает Зарыхте то, о чем он не любит думать: роль, которую сыграла в его судьбе Ханна. Многие годы она подавляла его своим спекулятивным (превосходно чувствовала себя в сфере софизмов) складом ума, опережала его, а он шел следом, как бы по проторенной ею стезе. Откуда взялась моя убежденность, что она такая мудрая, почему слепо доверился ее интеллекту, знаниям, интуиции? Взяла за руку и повела, точно я сам не мог передвигаться собственными силами. Позволил вести себя, это моя ошибка. Не только в те годы. И позднее, уже в Варшаве. Кто знает, не атавизм ли это, унаследованный от предков. Ведь как это ни парадоксально, в моей крестьянской семье весьма считались с мнением женщин, таких, как Ванда, слабых, внушающих жалость, горемычных. Теперь тоже все решает Ванда.
Лишь после отъезда сына Ханны — Янека — начала рушиться вся их совместная жизнь. Но сокрушительней всех ударов, обрушившихся на Зарыхту, оказалась метаморфоза Янека в Джона Крафта. Может, получилось бы иначе, если бы он усыновил парня? Опять бегут мысли наперегонки: Барыцкий, Ханна, Янек, круг все теснее. Но Ханна говорила, что Ян Крафт (это была ее девичья фамилия) звучит не хуже, чем Ян Зарыхта. Кароль соглашался с этим, уважал ее волю, ее право. Думал — какие-нибудь сантименты, хотел проявить терпимость. Кто бы, впрочем, мог предвидеть? Ведь Янек унаследовал от Ханны все: цвет глаз, манеру говорить, а кроме того, вероятно, и мировоззрение. Она была красной из красных, казалось, этот цвет не выгорает, не блекнет. Потом, когда родилась Ванда, договорились: ты, мужчина, воспитываешь мальчика, я, женщина, девочку. По существу, дети воспитывались сами. А через годы Ханна, повздорив с ним, бросила ему в лицо: ты его сам воспитал таким!
Зарыхта никогда не спрашивал и не знал, кто был отцом Янека. Он, разумеется, отдавал себе отчет в том, что Ханна в личной жизни не признавала «буржуазных предрассудков». Своего союза они не легализовали даже тогда, хоть он предлагал и настаивал, когда должна была родиться Ванда. Кароль знал также, что у Ханны, прежде чем он вошел в ее жизнь, были любовники. Но об этом никогда не говорили, это была запретная тема, щекотливая и крайне для него унизительная. Даже стыдно было в этом признаться себе самому. Ханна — разумеется, она определила статут их союза — сказала: «Пока мы вместе, никаких шашней на стороне, я этого не признаю, мы должны быть взаимно лояльны». Пожалуй, уговора они не нарушили.
Но кто был отцом Янека, который родился в 1938 году, во Львове, в семье Крафтов (меховой магазин в пассаже Андриолли)? Он был внебрачным ребенком отбывавшей тюремное заключение политической «авантюристки». Ханну не могла вынести даже собственная семья. Через два месяца после рождения ребенка она порвала с родней и больше никогда не видела отца. Зарыхте она однажды сказала с горечью: «В жизни папы были два триумфа: первый — когда он преподнес соболей его магнифиценции ректору Львовского университета, откуда через полгода меня вытурили, и второй — когда вошел в юденрат, из которого дорога вела прямехонько к песчаным карьерам Гурки Яновской».
Воспоминания, воспоминания! Зарыхта смотрит в окно купе. За окном — изрезанные полосками поля, нигде в Европе нет такой чересполосицы, как в Польше, приятной для глаз неизменности, словно вовсе нас не касается быстротекущее время, торопливость эпохи. «Польская чересполосица» — ведь это определение Ханны, уничижительное, произносимое с гримасой. И снова она в те годы: с трибуны собрания говорит именно об этой чересполосице. Как проста и легка для нее эта задача: все изменить в этой стране, шагать в ногу со временем, а еще лучше — ехать на паровозе истории. Или — как скажет он ей как-то в пылу спора — в спальном вагоне первого класса, прицепленного к этому паровозу. Но разве то, что говорила тогда Ханна, лицемерное фразерство? Пренебрежение к фактам? А если она так воспринимала тогдашнюю действительность? Значит, возможно, он был неправ, когда впоследствии на прощанье сказал: «Ты и тебе подобные не переросли салонного коммунизма. Поэтому вам легко отказаться от убеждений молодости».
Какой, собственно, была тогда Ханна? Во Вроцлаве Зарыхта вместе с Барыцким руководил своей первой крупной стройкой. Оглядываясь вспять с высот тридцатилетия, он думает не без иронии — триста каменщиков! Съемочная группа кинохроники приезжала пять раз, и всегда это было из ряда вон выходящее торжество с переодеванием, поскольку каменщикам выдавались по этому случаю новые комбинезоны. Крупная стройка! Объект стоит поныне — так себе, небольшое предприятие, но тогда казалось… В тот год была вроцлавская выставка. Жизнь, молодость, даже обед в столовке — все было упоительно! А Ханна всюду умела устраиваться как на праздничной фотографии: в первом ряду, живописная поза и непременно рядом с вице-премьером. Эта баба, исчадие ада, была вездесуща. И еще находила время для флирта, выпивонов в мужской компании, эскапад в горы. Ее динамичность нравилась медлительному Зарыхте, потом он научился у Ханны жить в вечной спешке. «Эта спешка губит твое сердце, — твердит ему теперь старый доктор Финкельштейн. — Сколько времени ты обедаешь? Пятнадцать минут? Ну так трать на этот паршивый обед не менее часа».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: