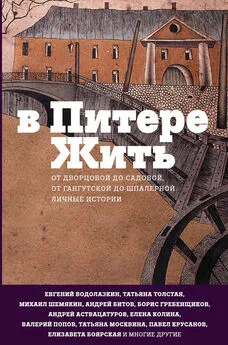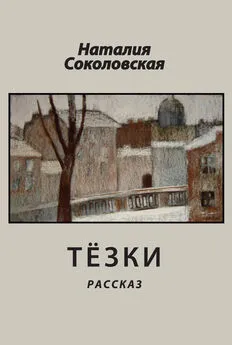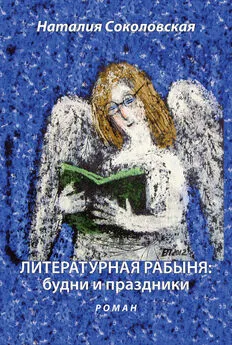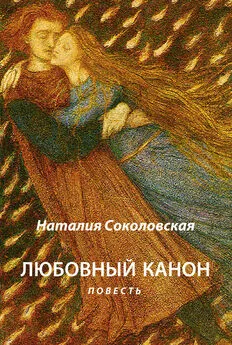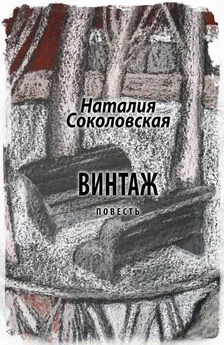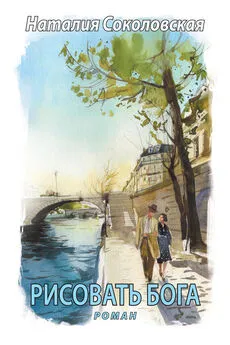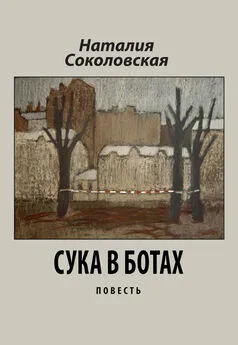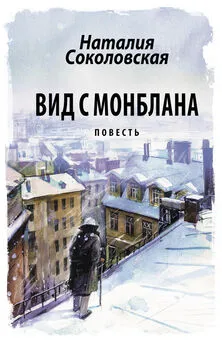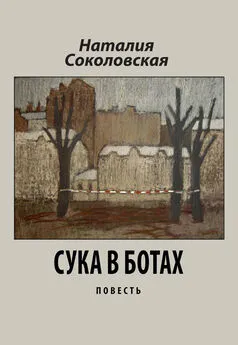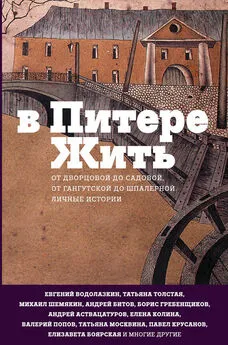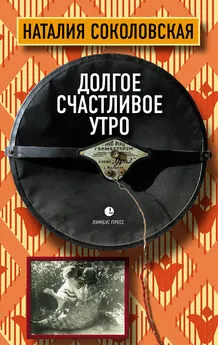Наталия Соколовская - В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории
- Название:В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-100439-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Соколовская - В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории краткое содержание
В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Интересно, что Павел, и Пален, и Саблуков, о котором она написала потом лучшую свою балладу, были постоянной темой ее тогдашних размышлений (но не разговоров, а стихов); она видела в эпохе Павла некоторое сходство с перестроечной, которая ей, кстати, вовсе не нравилась. В отличие от большинства петербургских писателей, испытывавших либеральный восторг и демократический экстаз, она очень скептически отзывалась о наступающих временах, понимая, что распад империи никому ничего хорошего не сулит; и в этом она оказалась совершенно права. Как-то она умудрилась на своем Елагином острове остаться в стороне от заблуждений, назначений и заграничных поездок. И потому, может быть, всеобщий распад затронул ее меньше, – и никакие тогдашние заблуждения ее не отравили. Написав «Час пик» и напечатав его в «Новом мире», она, что называется, решительно отмежевалась – от всех сразу. Ее избранное называлось «Полоса отчуждения». А могло бы и «Елагин остров», потому что именно на него она была похожа больше всего.
Но почему же только Елагин? Она и Петроградку свою знала, как свою квартиру, сравнительно поздно полученную, старую и очень питерскую. Помню, как возила она меня в часовню Ксении Петербургской, скорой помощницы, которая была ее любимой святой и стала моей любимой. Русское юродство – величайший вклад России в религиозную культуру православия, в христианскую историю вообще. Особенно она любила гулять по блоковским местам Петроградки и однажды отвела меня в тот самый сбербанк, тогда сберкассу, где прежде был трактир, в котором Блок был пригвожден к трактирной стойке. Может, и легенда, но я там постоял у столика и представил себя глубоко пьяным, провожающим взглядом свое счастье; отличный был поход, она из любой прогулки легко делала праздник.
Обозреть Елагин остров и вообще Петроградскую сторону с приличной высоты мне выпало при обстоятельствах экстремальных. Однажды Слепакова узнала, что в пивном ларьке на Лодейнопольской, совсем рядом с ее Большой Зелениной, появилось свежее пиво. Я был туда отправлен с огромным бидоном, на ближайшем рынке куплены были раки, затеялся пир. Был для него и повод – из Пскова приехала другая ученица, непременная участница «Пажеского корпуса» Ирка Парчевская. Во время распития пива Слепакова увидела на крыше котенка, который никак не мог слезть. «Быка! – воскликнула она. – Немедленно спаси кота!» Мне пришлось по тайной лестнице забираться на чердак, а весна, март, скользко, и высоты я не то чтобы боюсь, но как-то не очень ее люблю, скажем так. И вот закатное солнце, все блестит, вдалеке сияет Исакий, дом семиэтажный, но с очень высокими потолками, 1911 года, большой, короче. Я был несколько пьян и только поэтому полез, тем более Слепакова все время меня подбадривала: «Ну чего ты? Левка бы давно слазил». Мочалов вообще всегда приводился в пример как образчик мужества, рыцарства и физической ловкости. Как я попал на эту крышу и как по ней ходил – помню смутно, но вид открывался действительно очень красивый. Собственно, только вид я и помню. Я шел вдоль конька, ставя ноги по разные его стороны, чтобы, если поскользнусь, не рухнуть, а сесть на шпагат. Кот, что удивительно, при моем появлении довольно шустро дернул в слуховое окно и там исчез, а вот меня снимали всем домом, то есть масса жильцов высыпала во двор и давала советы. Что интересно, Мочалов, поставленный в пример и как раз в это время вернувшийся из своего Русского музея, устроил Слепаковой грандиозную выволочку: «Я понимаю, что этот молодой идиот… но ты-то!» Слепакова кротко кивала и приговаривала: «Вот так он со мной…»
Прогулок по Елагину было много, и в разные сезоны, – чаще всего летом и осенью, но дворец, например, мы осматривали мягким и снежным зимним днем, когда огромные пласты мокрого снега сползали с веток и тяжело плюхались, и пахло уже весной («запах свежий и тлетворный подобравшейся весны»). Все эти прогулки для меня описываются одним слепаковским стихотворением – «Последний раз в ЦПКиО», – где сказано все самое главное, где дан тот портрет острова, лучше которого уже не напишешь. Эту вещь Слепакова мне показала году в 95-м; обычно в каждый новый приезд – ежемесячный, как правило, потому что я никак не мог себя заставить реже туда приезжать, – она приносила на кухню новую порцию стихов (писала в последние годы довольно много). И вот я прочел «ЦПКиО» и сказал: ну, ваше величество, – это была принятая форма обращения в так называемом Пажеском корпусе, в кругу учеников, величество или Мажесте, – либо с вами общаться, либо вас читать. Как-то в личном общении начинаешь панибратствовать и забываешь про масштаб. Я эту вещь поныне считаю не то что лучшей у нее, – там конкуренция большая, – но безупречно сделанной и в каком-то смысле самой откровенной. Когда у Житинского… каждое слово тянет за собой историю, все время приходится отвлекаться: ведь Житинский чуть не завел со Слепаковой романа, у него я тоже ходил в учениках, и Слепакова не раз его подкалывала, что я их несостоявшийся внебрачный сын (в самом деле, никто и никогда не был мне – кроме семьи – так близок, как эти двое). После смерти Слепаковой Житинский издал ее пятитомник, который мы со Львом Мочаловым собрали. Вышло три тысячных тиража подряд, сейчас его уже нигде не достанешь. Так вот, Житинский собирал свое виртуальное ЛИТО в Комарове раз в году, в августе. Все съезжались и развиртуализировались, визуализировались, напивались, самые удачливые совокуплялись. Однажды он устроил вечер любимого стихотворения, сам читал Блока – «Когда в листве сырой и ржавой» – и «Август» Пастернака. А я, хотя знаю наизусть действительно очень много, вдруг выбрал в качестве любимого – к своему и общему удивлению – именно «Последний раз в ЦПКиО»; многие недоуменно переглядывались, потому что на них это никак не подействовало. Но чтобы подействовало, надо было, наверное, в самом деле часто гулять по этому осеннему парку, по Масляному лугу, на котором устраивались знаменитые масленичные гулянья с бесплатными блинами; надо было остро и болезненно переживать советский упадок – последнее эхо петровского проекта – и за всей советской брутальностью чувствовать обреченность; надо было, наконец, иметь с Родиной примерно такие отношения, какие у Слепаковой были с матерью. А у Слепаковой с матерью были очень тяжелые отношения, которые она не побоялась со страшной точностью описать в единственном своем романе «Лиловые люпины». Ведь это про нее сказано – «Это ненависть, ненависть ходит в поздний час у меня за стеной, водку глушит, пластинки заводит, одичалой трясет сединой».
Ну вот, короче, сейчас я эту вещь наконец процитирую.
Однажды с перепою, с переругу,
С тоскливого и злого похмела,
Сочтя меня – ну, может, за подругу,
Она ко мне в каморку забрела
Интервал:
Закладка: