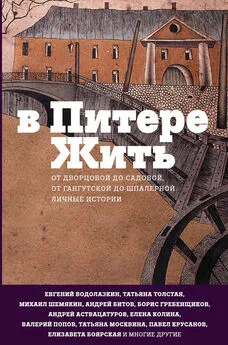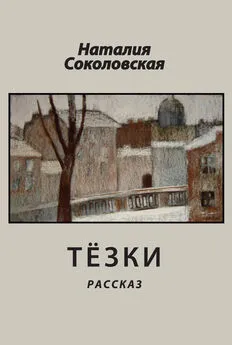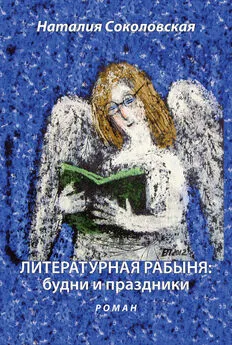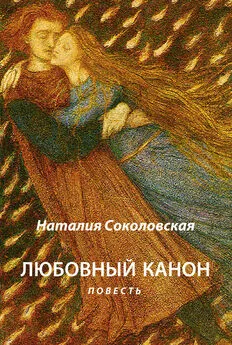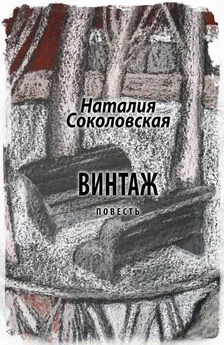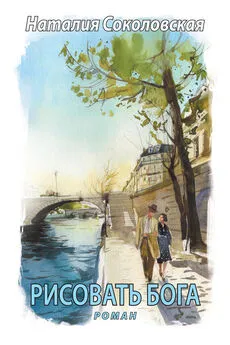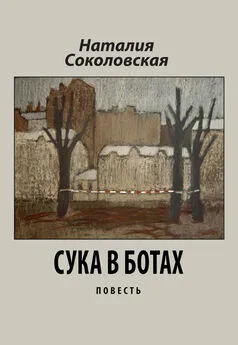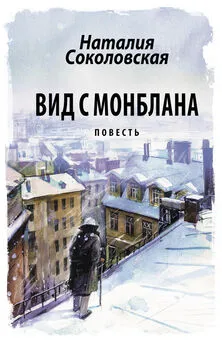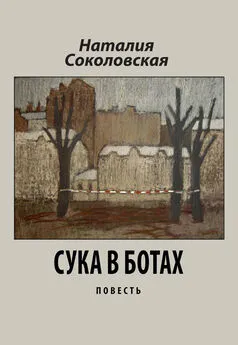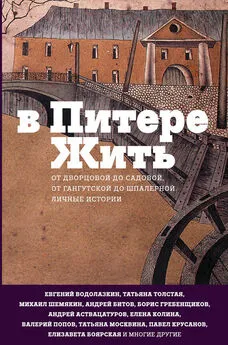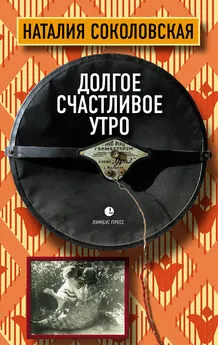Наталия Соколовская - В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории
- Название:В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-100439-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Соколовская - В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории краткое содержание
В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Собственно, та часть моей жизни прошла в окружении упомянутых действующих лиц, к которым через год, когда мне исполнилось шесть, добавилась младшая сестра, а все остальные: соседи по коммунальной квартире, дети, с которыми я играла на прогулках, и даже две бездетные балерины, жившие этажом ниже (время от времени они звали меня в гости, в свою квартиру, полную волшебных безделушек, засохших и свежих букетов, толстых занавесей с кистями и прочих невиданных вещей, казавшихся продолжением театрального волшебства), – существовали где-то далеко. Что уж говорить о Елагином острове, куда меня лет с четырех возили на уроки английского, пока не нашли группу поближе, хорошую, с точки зрения мамы.
На прогулках бабушка чинно сидела на садовой скамейке и коротала время за разговорами с аккуратными ленинградскими старушками, чьи внуки и внучки составляли мою прогулочную компанию. Если же бабушке не приходилась по вкусу другая бабушка, мы уходили в противоположный угол сада, где я знакомилась с новыми мальчиками и девочками, что меня нисколько не огорчало, потому что главными в моей жизни были не формочки для куличиков, не желуди, которые можно собрать на газонах, и даже не венки из разноцветных кленовых листьев, а то, чем можно заняться дома: тихие игры и чтение. Чтению я предавалась самозабвенно с четырех лет, с той самой минуты, когда, открыв маленькую книжечку (из набора книжек-малышек – штук тридцать, с ладошку величиной, в одной картонной коробке – мало ли, вдруг кто-нибудь тоже помнит?), пережила волшебство букв, сложившихся в слова. Кстати, интересно понять, чем отличаются дети вроде меня от других детей, которые учились читать по вывескам, складывая буквы в «гастроном», «булочную» или «аптеку». Вывесок я совсем не помню. Возможно потому, что на Театральной площади их вовсе не было, кроме разве что угловой булочной, но что там читать, если она всегда была булочной. Собственно, в ней и познакомились мои родители: мама заканчивала вечернюю школу, а днем работала кассиршей. Может быть, поэтому они сюда и переехали, сменяв две комнаты на одну.
Я училась в первом классе, когда нашей семье вместо этой самой комнаты в коммуналке, в которой нас, учитывая новорожденную сестру, стало пятеро, дали двухкомнатную хрущевку в Купчино (проспект Славы, дом 10, корпус 3, квартира 21). Аттракцион невиданной щедрости со стороны государства. Но вопросы жилищной политики в те годы меня не занимали.
В сравнении с красотой, окружавшей меня в раннем детстве, купчинские декорации выглядели уродством. Я помню растерянный вопрос бабушки, с которым она, выбравшись из такси прямо в черную грязь у подъезда, обратилась к маме: «Господи, Вера, куда ты меня привезла?» Только потом, через много лет, я узнала: после десятилетий жизни в коммунальном аду (про который в наши дни любят рассказывать ностальгические сказки: дескать, жили тесно, зато дружно) советские люди радовались и таким отдельным курятникам с потолками два сорок и пятиметровыми кухнями. Мое отношение к этому жилищу определил ответ мамы: «Не бойся, бабушка, мы скоро уедем обратно. В Ленинград», – с той же решительной и сильной интонацией, с какой она рассказывала про возвращение с Урала, куда в 1943-м, после двух блокадных зим, эвакуировали остаток семьи – без отца, которому еще предстоит погибнуть на Синявинских болотах в день снятия блокады (тогда еще просто день, а не праздник), и маминого младшего брата, годовалого Вити, умершего в первую зиму, – безо всякой гарантии возвращения. Но после войны это все-таки удалось. Не в последнюю очередь потому, что на восьмиметровую комнату на Первой Красноармейской (бабушка говорила, на Первой роте), в которой до войны они жили вчетвером: мамины родители, сама мама и Витя, – никто не позарился, даже управдом. Позарились на бабушкину жилплощадь (роскошную двадцатиметровую комнату на Международном, позднее – Сталинском, ныне – Московском проспекте), причем не кто-нибудь, а дальняя родственница их соседки, седьмая вода на киселе из черниговской деревни. Накануне эвакуации бабушка прописала ее к себе с условием, что после возвращения та пустит ее обратно. Не только не пустила, даже вещей не отдала. Впрочем, дубовый обеденный стол и шкаф красного дерева к тому времени уже перекочевали в соседнюю квартиру – полагаю, в оплату за хлеб.
Кроме случая с чужой родственницей, от этой комнаты на Международном в нашем семейном эпосе остались еще две истории; каждая по-своему поражает воображение.
До революции бабушке принадлежала вся квартира. В советское время, когда начались уплотнения (в город, опустевший в начале двадцатых, спасаясь от голода, ужасов Гражданской войны и снова от голода, хлынули беженцы), но бабушку пока что не трогали, она, поняв, куда дует революционный ветер, уплотнилась сама: не дожидаясь навязанных государством соседей, подселила к себе трех, как она говорила, порядочных женщин – двух сестер, старых дев и деклассированных дворянок, и одну тайную монашенку. Их жизнь в этой псевдокоммуналке в каком-то смысле была продолжением «царского времени», чего не скажешь о маминой коммунальной квартире, сотрясаемой кухонными дрязгами и пьяными скандалами. Вспоминая свое довоенное детство, мама говорила, что в чинной бабушкиной квартире, куда родители отправляли ее время от времени на денек-другой, она сама себя не узнавала, превращаясь в другую девочку. У бабушки обедали за столом, покрытым скатертью. Кузнецовские тарелки, тяжелые серебряные приборы. Тихие голоса. Эти голоса отчего-то запомнились особенно, видимо, по контрасту с вечной коммунальной ораниной в ее родной квартире. Сообразно «царскому времени» маму переодевали в красивое платье: шерстяное или шелковое, в зависимости от сезона. Уходя от бабушки, она надевала свое: ситцевое, штапельное или фланелевое – обратное превращение в дворовую девчонку.
Кстати, другая мамина бабушка для меня оставалась фигурой умолчания, хотя жила в той же квартире, где и мама, и, казалось бы, должна была стать бабушкой номер один, которая следит за ребенком, пока родители на работе: встречает после школы, кормит, выпускает гулять во двор и все такое прочее. Но этими воспоминаниями мама никогда не делилась. Отделывалась туманной фразой: «Моя бабушка Маня всегда ходила с прямой спиной». Правда открылась мне только нынешним летом. До революции бабушка Маня была единственной и всевластной владелицей знаменитых в те годы Рябининских мануфактур, на которых производили ткани. Пролетарских вил восставших рабочих она – с четырьмя сыновьями – избежала, догадавшись бросить все и уехать в Ленинград (тогда еще Петербург), где полномочные представители этих самых рабочих, только в сталинских голубых погонах, рано или поздно все равно бы их всех доконали. Но бабушка Маня приняла второе судьбоносное решение. Уж как она всё объяснила сыновьям – не ведаю, но, по свидетельству мамы, взяла с каждого из них честное слово, что они даже мечтать не посмеют о высшем образовании, а отправятся прямиком на завод. Причем самыми что ни на есть рабочими. Метод социальной мимикрии сработал. Но с этих пор баба Маня замкнулась в себе и редко покидала свою комнату – видно, боялась выдать себя негнущейся спиной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: