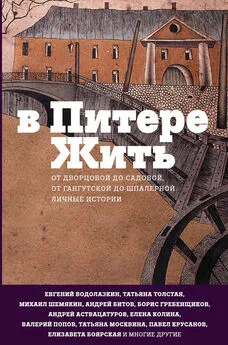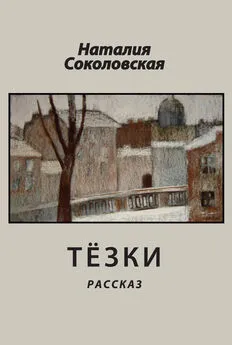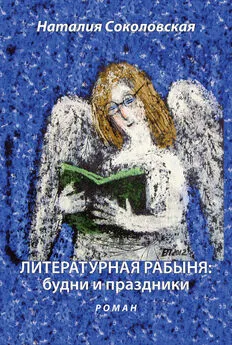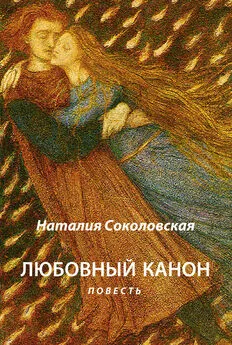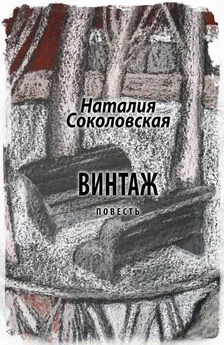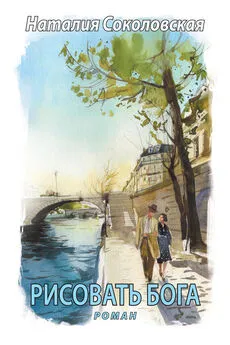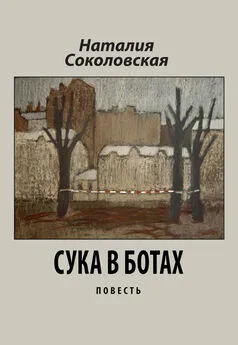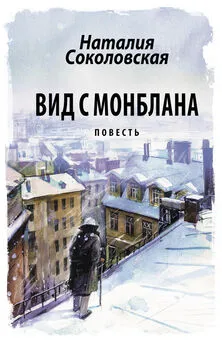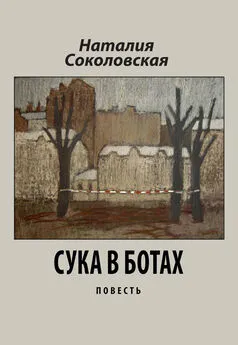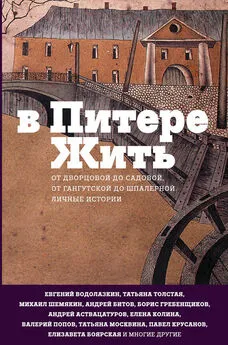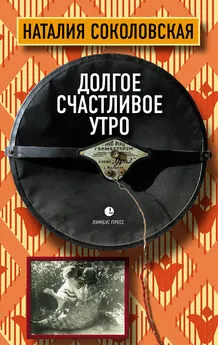Наталия Соколовская - В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории
- Название:В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-100439-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Соколовская - В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории краткое содержание
В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мамина «царская жизнь» прервалась в первую блокадную зиму, когда бабушке пришлось переехать к дочери на Первую Красноармейскую, потому что на Международном было нечем топить. А на Первой Красноармейской дрова были: в июле, дня за два до ухода на фронт, мамин отец увидел на улице машину с дровами и вдруг, непонятно почему, купил – хотя обычно дровами запасались осенью, а до осени война уж точно должна закончиться, так обещало радио (телевизоров в те времена не было, иначе обещания давал бы телевизор). Зимой они голодали, но не холодали. Мама всегда говорила: «Без дров мы бы все умерли». Деда я никогда не видела, но знаю: если бы не его дрова, я бы не родилась. Ближе к весне, хотя снег еще лежал замерзшими горбылями, бабушка, собравшись с силами и на всякий случай взяв с собой маму, отправилась навестить своих соседок и нашла их мертвыми – всех троих.
Подробности этих историй я узнала много позже. В детстве же перебивалась обрывками бабушкиной и маминой памяти, всплывавшими в их разговорах за утренним чаем, когда они, наряду с дневными планами: что купить, что сготовить, – вспоминали то довоенную жизнь, то войну, то эвакуацию. Меня кормили завтраком раньше и на этот ежеутренний «ten o’clock» не приглашали. Более того, если мама вдруг замечала мое навостренное ухо – другое плотно приникало к тряпочке, закрывавшей черную дырку радио, откуда лилась детская передача, – она решительно прекращала опасный разговор, в который то и дело вторгалось царское время. Но кое-что я все равно услышала и запомнила. Как запомнила обрывки маминых воспоминаний про эвакуацию, про уральскую девочку, ее подружку по местной школе. Выполняя пионерское поручение, мама помогала ей с уроками и однажды случайно пришла раньше, семья как раз обедала. Ее попросили обождать в прихожей или как там у них на Урале называется, и мама сидела, собравшись с силами, боясь упасть в голодный обморок – так пахло разной вкусной едой. Даже мясом, о котором они давным-давно забыли. Потом она уже знала, следила за временем, приходила позже. «А почему ты не попросила? Хотя бы кусочек, половинку шанежки». Про запах этих чертовых шанежек, свежих, прямо из печки, мама и через много лет рассказывала так, что я исходила горькой слюной. Что же чувствовала она, десятилетняя, в ту первую уральскую зиму, когда они, если сравнить с Ленинградом, не голодали, но подголадывали – слово, до сих пор вызывающее тревожный спазм в моем никогда не голодавшем желудке. Мама ответила: «В блокаду мы выучили твердо: еду просить нельзя».
Кстати, историю бабушки Мани и ее четырех сыновей можно рассматривать в том же ракурсе: побег из Тверской губернии в Ленинград – тоже эвакуация своего рода.
Думаю, именно эти разговоры, полные бытовых историй, памятных то маме, то бабушке, то им обеим, во многом определили мое понимание «большой» истории России и СССР. Она делилась на разные периоды, но главным было разделение на «до» и «после» революции. И дело даже не в том, что люди, жившие «до», брали шоколадные конфеты специальными серебряными щипчиками, а в том, что сами они были какие-то другие . Как если бы в старых дореволюционных декорациях теперь играли новые актеры, причем различие между «теми» и «этими» заключалось не в уме или глупости, трудолюбии или лени, образованности или серости, а в чем-то неуловимом, что ни бабушка, ни мама не знали, как назвать. Впрочем, мне хватило и этого противоядия, чтобы с самого первого класса не попадаться на удочку октябрятской и пионерской шелухи о «замечательных советских людях», с которыми до отъезда с Театральной я, в сущности, не была знакома, а познакомилась уже в Купчино. Немедленно, как только вышла во двор.
Точнее, на двор. По правилам местной грамматики так называли прорехи между корпусами, заваленные кучами строительного мусора, лопнувшими цементными плитами, гнутой арматурой – на этот марсианский пейзаж я, что в данном случае важно, смотрела уже одна, без бабушки. Среди этих, как бабушка определила, бараков она раз и навсегда отказалась гулять.
Если выразить мой новый опыт одним взрослым словом, это была встреча с иной цивилизацией. Пока я, одетая так, как было принято на Театральной: клетчатое пальто с меховым воротничком, осенние туфли на шнурках и вязаная шапочка из белого козьего пуха – стояла, замерев на коротком асфальтовом язычке, проложенном от парадной до непролазной грязи, меня заметили и подошли. Человек пять, мои одногодки или чуть постарше. Первым заговорил мальчик, одетый во что-то черное с металлическими пуговицами: «Чё стала?» Не получив ответа, задал следующий вопрос: «Ты кто?» Я ответила так, как отвечала на Театральной, знакомясь с детьми: «Меня зовут Аленушка». До сих пор помню их леденящий душу смех. Надо отдать мне должное, я сообразила, что сморозила ужасную глупость, и назвалась полным именем, которым подписывала школьные тетрадки. «Ха, моя сестра тоже Ленка», – их главный перевел на местный язык. «Вару хочешь?» Что значит «вар», я не знала, но кивнула из дипломатических соображений и получила маленький осколок, блестящий, который, как тут же и выяснилось, надо жевать. «Ну чё, вкусно?» Я кивнула искренне, черный прообраз жвачки мне очень понравился. Видимо, обряд инициации на этом закончился. Теперь все болтали наперебой. В ближайшие два часа (пока мама, распахнув форточку, не позвала меня ужинать – тоже нечто новое и невиданное, если сравнить с жизнью на Театральной), я узнала много интересного. Во-первых, в других корпусах (первом, втором, четвертом и пятом, поперечном) живут наши враги, их надо опасаться, а если что – давать решительный отпор. Во-вторых, бочка с замерзшим варом стоит на пустыре, вкусные куски можно отбить палкой, но лучше – обломком арматуры. В-третьих, их родители работают на «Электросиле», в-четвертых, все они ходят в школу за дальним магазином: дальним не потому, что есть ближний, просто отсюда далеко. И, наконец, во второй парадке живут жиды. Вон там, на четвертом этаже. С их жиденком никто не играет. О том, что, согласно их картине мира, я тоже наполовину жиденок, я и понятия не имела. А если бы и имела, боюсь, у меня не хватило бы смелости дать отпор.
До сих пор удивляюсь, как мне достало ума не рассказать обо всем этом дома. А ведь могла – по тогдашней своей дремучей «досоветской» наивности. Как бы то ни было, к ужину я вернулась другим человеком, в общих чертах уже понимающим, как устроена настоящая жизнь. Уже через неделю, переодевшись в резиновые сапоги и толстые серые брюки, которые мама, хорошо помнившая свою недолгую жизнь на Урале, сшила мне из старого бабушкиного пальто, я лихо карабкалась по мусорным кучам, ловко отбивала кусочки вара и на равных правах со всеми аборигенами встречала прибывающих новоселов, уже не удивляясь незнакомым словам. От прежней жизни осталась белая вязаная шапочка, но и она вскоре превратилась в серую – невозможно стирать каждый день.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: