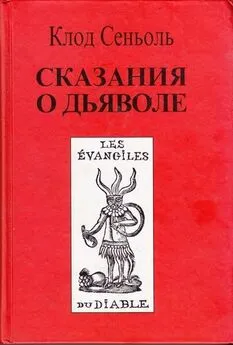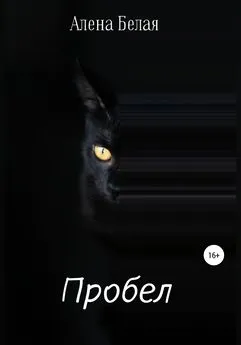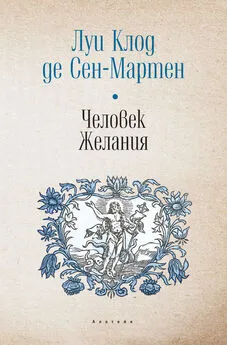Клод Луи-Комбе - Пробел
- Название:Пробел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клод Луи-Комбе - Пробел краткое содержание
Белизна в «онтологическом триллере» «Пробел» (1980) оказывается отнюдь не бесцветным просветом в бытии, а рифмующимся с белизной неисписанной страницы пробелом, тем Событием par excellence, каковым становится лепра белизны, беспросветное, кромешное обесцвечивание, растворение самой структуры, самой фактуры бытия, расслоение амальгамы плоти и духа, единственно способное стать подложкой, ложем для зачатия нового тела: Текста, в свою очередь пытающегося связать без зазора, каковой неминуемо оборачивается зиянием, слово и существование, жизнь и письмо.
Пробел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И тянулось и тянулось время. Все это было делом не часов или дней, а, как в сказках о заснувших, бесконечного, так сказать, растяжения однородной, тождественной самой себе длительности, в недрах коей ни одно мгновение не отличалось от любого другого.
Бесконечной длительности, единственным будущим в которой могла быть только все более и более пространная праздность, отвечала моя все более самодостаточная, чуждая любым планам безучастность, все более мирная и весомая, по мере того как во мне ослабляла хватку тревога. То было как бы безграничное вызревание сердца, постоянно впитывающего через созерцание пустоту и белизну. Я не формулировал теорий. Не пытался осмыслить свой опыт в свете той или иной системы. Я просто-напросто совпадал с состоянием, которое постоянно поддерживала во мне медленная и неотразимая аннигиляция моего универсума. Не пытаясь от нее ускользнуть, я проживал ситуацию, в которую попал. И то, что поначалу мнилось непереносимым, теперь представало необходимой работой , затрагивавшей не только предметы вокруг, но и мою духовную жизнь в целом. Как я некогда почувствовал перед листом белой бумаги, нужно было безоговорочно принять фундаментальную пустотность сущего и, сверх всего прочего, пустоту собственного существа. Я должен был вобрать в себя, вплоть до полного отождествления, ту нулевую белизну, на опушке которой я так и продолжал стоять, молча — глубинно разлученный с теми немногими предметами, что все еще упорствовали быть. Во мне, в неподвижности чувств и замирании всякой интеллектуальной деятельности, поднималось бесконечное согласие. Я готов был пойти на риск, всем своим существом сказать да тому, что его радикально отрицало. И впредь только этим риском и был.
Не говорю ли я сегодня об этом как о рождении и раскрытии во мне величайшей любви? К этому меня склоняет все, что я знаю о своем опыте. В самом деле, поскольку оно ничего не ждало, ожидание никогда не было во мне таким живым, таким насущным для моего сердца — настолько, что именно ожидание, несомненно, удерживало меня на ногах при сем конце света; и, поскольку лежащее на его дне желание не имело объекта, я еще не ведал подобной горячности. Как и любой, до тех пор я проводил жизнь в погоне за формами, подстерегал их, подстрекал, измышлял, коли их не хватало, присваивал с тем более пылкой жадностью, чем ближе она была к неподвижности. Но теперь любимицы-формы признавали свое небытие; возвращаясь к самим себе, отходили пустоте. И, в зиянии любви, что любит не за что-то, я принимал эту пустотность. Не шевелясь, приходил к ней, а она приближалась ко мне. Я приветствовал ее без единого слова, без мысли, без действия, самим фактом своего присутствия. За вычетом взгляда, который остановился на пробеле, на расстоянии от любой вещи, мои чувства были словно закупорены и ничего более не сообщали. То, чем я себя время от времени прежде считал, моя обособленность и одиночество — из коих я извлекал определенное тщеславие, — представали по отношению к переживаемому сейчас всего лишь милой юношеской забавой. Ибо отныне я был заодно с необратимостью отсутствия. И с кем бы или с чем бы такое ни случилось, меня это уже не касалось. Я сошел с дороги — и дороги больше не было; закрыл двери и окна — и не было больше ни окон, ни дверей.
В постоянном и радикальном самосредоточении всего моего существа я открывал, что любовь к другому — будь то личность или предмет — всего лишь неуклюжая и досадная метафора любви к пустоте, где только и может исполниться твое предначертание: в отречении, в отказе от самости, в абсолютном стирании своего присутствия. Того забвения собственных пределов, коего тщетно взыскует в грезах о могуществе и обладании влюбленный, как я теперь знал, насмотревшись на белизну, можно достичь, лишь с полным смирением подчинившись закону отсутствия. Бытие было всего-то фантазмом, существование — бредом. Любовь не имела никакого отношения к жизни. Если она и была, то разве что как любовь к смертному и, по ту сторону всего смертного, к пустоте как лицу небытия — отсутствующему лицу на донышке единственно необходимой красоты.
Прежде я полагал, что моему желанию вполне достанет форм. Теперь, когда формы оказались упразднены, оно стало обширнее, чем когда-либо, более одиноким, и я открыл, что оно никогда не имело в виду ничего другого, кроме отсутствия, с беспредельной неутолимостью связующего его с самим собой. Как бы я иначе не впал в ужас и бессилие? Коли я оставался здесь, коли держался, объятый пустой белизной, на ногах, желание мое должно было быть отнюдь не позывом к обладанию. Моя все более чуткая к себе неподвижность учила: любовь непременно подразумевает превращение в добычу, принимаешь только то, что так или иначе представляет и возвещает бесконечную смерть.
Подобные идеи пролили во мне свой свет позже, по мере того как я вновь обрел смысл слов и окончательную причину письменно их фиксировать. Возможно, поговорю об этом в другой раз. Сейчас же, дабы с этим покончить, хочу лишний раз сказать, что сталось с миром, где я пребывал, пока по ту сторону всякой выразимой тревоги приближался к невыразимой любви, самой ужасной из всех, — к любви к пустоте, корню любой возможной любви.
Одна за другой оказывались затронуты занимавшие пространство и определявшие мое пребывание здесь вещи. На поверхности проступало крохотное белое пятнышко. И мало-помалу расширялось; вроде бы наносное, развивалось в глубину этаким кариесом непорочности. Казалось, будто материя, не оставляя следа, переваривает самое себя. Мир — или то, что в его непосредственной, согревающей близости я испокон века таковым считал — очищался от своей осязаемой реальности. Самым странным было то, что вещи — вполне заурядные вещи, которых я держался (и которые в некотором роде до тех пор поддерживали меня), — как только их касалась белизна, переставали функционировать как таковые (обиходные, практические или эстетические) и не представляли больше ни малейшего интереса. Я с безграничным безразличием созерцал, как они растворяются, сами по себе распадаются, мало-помалу отделяясь от всех мыслимых функций и опустошаясь в пустоту. Или, скорее, то, что я наблюдал, стоя в неподвижности, было уже не вещами, заботу о которых я утратил, а самой пустотой в белизне отсутствия. И созерцание это не пробуждало во мне ни малейшей мысли. Отказавшись даже от самых элементарных попыток объяснения, я утратил вкус к образам и смысл слов — словно моим духом овладела пустота вне меня, чьим пассивным свидетелем я оставался, и, созерцая среди прочего мандалу безраздельно и бесформенно царящего здесь пробела, я созерцал свой пустующий и невыразительный внутренний мир, так что пограничье между объективным и субъективным постепенно сходило на нет. Лишь тело тяжеловесно и прозаически навязывало мне свою вечную обособленность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: