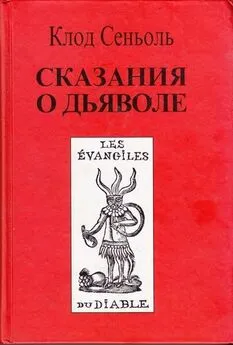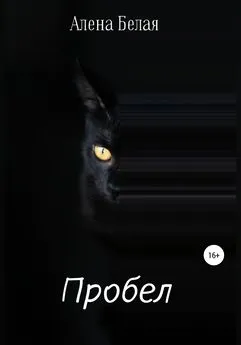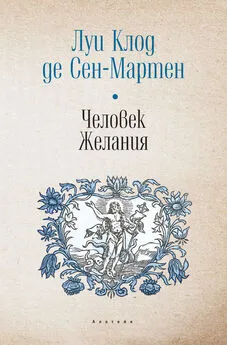Клод Луи-Комбе - Пробел
- Название:Пробел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клод Луи-Комбе - Пробел краткое содержание
Белизна в «онтологическом триллере» «Пробел» (1980) оказывается отнюдь не бесцветным просветом в бытии, а рифмующимся с белизной неисписанной страницы пробелом, тем Событием par excellence, каковым становится лепра белизны, беспросветное, кромешное обесцвечивание, растворение самой структуры, самой фактуры бытия, расслоение амальгамы плоти и духа, единственно способное стать подложкой, ложем для зачатия нового тела: Текста, в свою очередь пытающегося связать без зазора, каковой неминуемо оборачивается зиянием, слово и существование, жизнь и письмо.
Пробел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что же до уда, почему именно его следовало считать главным органом вожделения? Не приводило ли оное в действие и в движение через взаимосвязь чувств всю целокупность плоти? Член возникал, несомненно, на перекрестье всех чувствительных и чувственных сетей, что зиждут плоть на мощи желания. Но очагом интерференции на равных служила каждая точка тела, и на то, чтобы по очереди их доискаться, исследовать и исчерпать даруемое ими наслаждение, могла бы уйти не одна жизнь. Но я, впрочем, готов был принять это приключение плоти и ее удовольствия как бесконечно длимую страсть, беспрестанно обогащаемую собственным упрямством, и как своего рода святость (или, по крайней мере, совершенство), вполне достойную человека, — и, в равной степени, отлично знал, что если желание обладает мощью, то она отнюдь не сводится к симфоническому всплеску чувств...
Точно также — пусть даже сии философические реминисценции из числа самых тщетных, а моя вера, пока я стою здесь, не имеет с ними ничего общего — меня ничуть не заботило, как именно окажется задето мое тело. Знать это было бы разве что забавно. Важно было лишь удержать так долго, как понадобится, внутреннюю готовность принять и приветить окончательное событие, какую бы форму оно ни приняло.
Изредка, когда меня словно пронзали проблески разумности, вдруг высвечивая устои моего собственного мрака, я говорил себе, что, идя на поводу у привычек и истории, слишком уж связывал прежде смерть и виновность, истолковывал все, что со мной происходило — и прежде всего боль, неудачу, упадок, — на фоне вины. Я присутствовал при появлении пробела и постепенном уничтожении моего универсума как на инсценировке своего наказания. И поначалу ощущал неотвратимую неизбежность заражения пустотой как угрозу, направленную непосредственно на меня и возвещающую, что я осужден. Мне показалось нормальным (в недрах подобной ненормальности) и необходимым (хотя вся эта история с пятном и стеной подчас производила впечатление в равной степени нечаянного и игрового опыта), что из-за изъяна, коим являлось мое существование, я, в свою очередь, как и все вещи, к которым привязался, был затронут столь же беглым, сколь и неумолимым симптомом небыти — если на мгновение принять сей термин в попытке высказать не способное быть сказанным: приобщение к инстанции абсолютного отрицания. Если мне случалось бросить задним числом взгляд на собственную — во всем лишенную интереса — историю, то лишь для того, чтобы признать: я связан с кругом негодности, зла и греха. Зародившись и вызрев в сей сфере, мое личное приключение так ее и не покидало.
Но — возможно, лишь потому, что продолжал держаться на ногах, возможно, потому, что постоянство в приятии немыслимого и невыносимого превозмогло догму моей христианской чувствительности — теперь я видел, что в наготе человеческого тела, устремленного к фундаментальной наготе уже прекратившегося мира, припадаю к белой ране смерти как к радостному завершению всего своего бытия — самая громкая радость оказывается и самой безмолвной. Я пытался сосредоточиться на мгновении, как мог бы сделать (чего уже почти не помнил) некогда, будучи первопричастником. И на пороге моего желания, как своего рода безмерно беспричинное воздаяние, открывалось вовсе не казавшееся мне теперь наказанием смертельное зияние, коего я чаял: во мне, в том, что скоро станет моей последней утробой, поднималось ликование, что я есмь лишь для того, чтоб более не быть.
Оставшись во всей наготе, вот так, стоя, без кого-либо перед собой, без образа, без предмета, не обнаружил я в себе и плотских желаний. Отголоски воспоминаний и ностальгий выхолостились до полного безразличия. Уд, порождение и выражение вожделения, признавал своим покоем тщету всякой потенции. Земля пребывала в неподвижности. Искупать было больше нечего. Каждое желание знавало лучшие времена; времена эти минули. В настоящем же — как постоянно подпитываемое в самом себе и нескончаемо длимое настоящее — оставалось только ожидание, в коем я пребывал: ожидание не столько вещей, сколько небытия, не столько Бога, сколько отсутствия. Принять растягивалось до бесконечности.
Итак, когда у меня на теле появилась точка пустой белизны, я обратил внимание не на ее странность, а, скорее, на ее сокровенную близость моей плоти и, в общем и целом, на непрерывность моего к ней чувства — словно явленная ныне физическая пустота целиком и полностью проистекала из приостановки желаний и из состояния безграничной готовности, к коему внутри меня открывалось сердце, так что по необходимости то, что расширялось, открываясь в глубину, открывая глубину в самом себе и обнаруживая ее в своем отсутствии, было центром, пересечением всех мест тела, иными словами, сплетением. И тогда, в блаженном безразличии, с которым я мог, не отрываясь от созерцания бесконечности пробела, рассматривать это тело, мое отверстое к собственной пустоте тело, я осознал, что так долго тревожившая меня мысль о заражении пустотой доказывала мое полное безрассудство. Ибо пустота, которую я с таким упорством созерцал, не просто не была мне ни внешней, ни чуждой: она являлась всего лишь объективно воспринимаемым знаком моей собственной пустоты — как бы ее ипостасью. Вот почему я вправе сказать, что сие неподвижное ожидание было долгим путешествием назад, к моему истоку. Я рискнул отправиться снаружи внутрь или, скорее, прежде всего заметил вне себя, в его отчетливой белизне, отражение своей внутренности. В масштабах моего жительства при этом сошел на нет целый мир. И впредь, до тех пор пока мое сознание продержится настороже, мне останется постепенно, любовно сочетаться с всеобъемлющим вакуумом, чьей проходной и беспричинной цвелью было до поры до времени мое существование.
Этим полым сплетением — и я ощущал, как оно во мне углубляется, — было мое собственное отсутствие: я носил и вынашивал его в себе, как ребенка. Потому что я его обнаружил, потому что встретил, мне казалось, что оно — чистое порождение моей любви. Но в действительности вынашивало меня оно — как мать, от которой, мне думалось, я ушел и которую, оставленную, стало быть, забыл, но теперь она смертельно звала меня к себе. И в конце своего пути я возвращался к ней, туда, где, сам того не зная, никогда не переставал оставаться, в глубины чего имел доступ, не нуждаясь для этого в действии, — таким непосредственным в своем всемогущем поглощении было великое Отсутствие, мать моей плоти и души.
Я стоял, неподвижный и действительно опорожненный, укоренившись как растение в той внутренней пустоте, что несла в своей бесконечности отрицание любого корня. Я прямился без веса, без сцепления, зная, что рано или поздно упаду прямо на месте, здесь, как раз здесь. Мне только хотелось уже целиком войти к тому времени в свою собственную белизну — поглощенным и растворенным, истертым из самого себя, как будто ничего и не было. В ожидании мое сознание слилось воедино с заполонявшей меня полостью, которая расширялась, мало-помалу опустошая меня от субстанции и реальности. Жизненные процессы расплылись. Истончились утробные шумы. Вдох и выдох так далеко разнесли друг от друга свои ритмические акценты, что дыхание оказалось уже просто аккомпанементом безмолвия. Бесконечно разреженное существование брало за живое; в нем, не переставая казаться неподвижной, как подчас недвижна водная гладь в сновидениях, подрагивала белизна. Несомненно, мои органы отхлынули к своему центру и отбросили там всякую наполненность; также и члены со своей никчемной толщей; в один прекрасный день я стану всего-то колеблющимся мешком кожи, вместилищем пустоты, чуждой празднику гирляндой — или, может статься, в день последний, видимостью дымки, не такой белой, как пробел, более весомой, нежели ничто, пока она целиком не рассеется в отсутствии имени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: