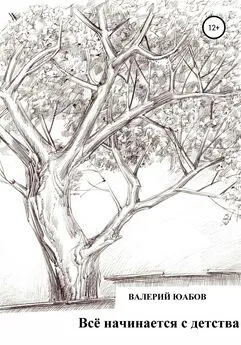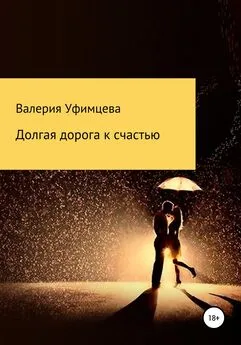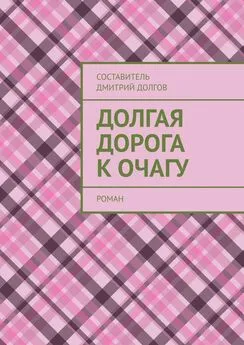Валерий Юабов - Долгая дорога
- Название:Долгая дорога
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array SelfPub.ru
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Юабов - Долгая дорога краткое содержание
Долгая дорога - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Разбивай, – сказал ребе, протягивая мне бокал, завёрнутый в салфетку… «Как бы не промазать, – подумал я, кладя его на пол и занося ногу. – Ведь смеяться будут, да и примета плохая». Но я не промазал, и синагога взорвалась аплодисментами и выкриками: «Мазл тов!»
Хорошо быть молодыми! Мы со Светой отправились, наконец-то, в ресторан и так отлично поужинали и повеселились, будто не устали и не переволновались… Но если бы меня кто спросил, что было самое приятное в тот вечер, я бы ответил: поцелуи после выкриков «Горько!» А выкриков хватало…
И ещё: если бы меня кто спросил, что бы я выбрал, если б снова женился на Свете, я бы ответил: скромное короткое венчание среди близких и долгую поездку к океану. Вдвоем.
Глава 45. Юабовы – потомки красильщиков
«Прошлое – это колодец глубины несказанной». Так начинает Томас Манн свой знаменитый роман «Иосиф и его братья». Поясняя это образное сравнение, он пишет, что начало истории той или иной народности и даже семьи мы можем проследить только с какой-то условной отправной точки. За её пределы нам не проникнуть.
Размышления Манна о глубинах прошлого вспомнились мне, потому что в этой главе я хочу рассказать о своих собственных попытках «заглянуть в колодец».
Почему я их начал? Ну, мне думается, почти каждый из нас интересуется своими «корнями». У одних этот интерес широк и включает историю своего народа, у других проявляется только к собственным предкам. Кстати, я заметил, что у бухарских евреев стало очень престижным собирать и по возможности даже печатать изыскания о наиболее интересных представителях своего рода. Ведь неслучайно такие опусы публикуются чуть ли не в каждом номере газеты «Бухариан таймс» да и книг на эту тему появилось немало.
К сожалению, я не знаю, существует ли такая традиция у других этносов, даже оказавшихся в сходных с нами условиях. Могу только сказать, что в русских газетах Нью-Йорка я таких публикаций не припомню.
Так или иначе, на меня наше подчеркнутое внимание к своей генеалогии, очевидно, как-то влияло. Может, не будь такой традиции, я бы этой главы и не задумал. Но дело не только в этом. Любопытство к прошлому семьи пробудилось во мне ещё в раннем детстве. Примется, бывало, мама рассказывать нам с Эммой какой-нибудь случай из жизни своих родителей, теток, дядей, сестер, – и я так всё переживаю, так радуюсь, сержусь, страдаю, будто сам участвую в том давнем событии. Наверное, мама была талантливым рассказчиком.
Рассказы моих дедушек и бабушек слушать было не так-то легко, изъяснялись они вперемежку на бухарском и ломаном русском языках. Но из несвязных клочков воспоминаний, приправленных сплетнями и небылицами, я всё равно почти всегда вылавливал что-нибудь любопытное. Воображение работало вовсю, услышанное превращалось в «картинки»: появлялись передо мной люди, раздавались их голоса… Впрочем, об этом я уже писал.
Однако же и мама, и старики рассказывали обычно о том, что происходило сравнительно недавно, то есть уже в Узбекистане, в Ташкенте. Более давние истории упоминались, не обрастая подробностями. А у меня с годами всё сильнее становился интерес именно к старине, к корням семейного древа. Я не раз собирался заняться самостоятельными поисками, но… Всё времени не хватало. Всё откладывал. И вот печальный результат: в этой книге я очень мало могу сообщить моим детям и будущим внукам об истории нашего рода. Говоря словами Манна, в «колодец» я сумел заглянуть не слишком-то глубоко.
…Как-то я спросил у одной пожилой дамы, казалось бы, вполне довольной своей престижной профессией программиста: «Если бы вы могли начать всё заново, выбрали бы эту специальность или другую? – «Только историю! – не задумываясь, ответила она. – Простить себе не могу, что так не сделала. История человечества – какие это бури! Смерч за смерчем… Миллионы и миллионы человеческих судеб взметаются, разметаются, рассеиваются, словно тучи песчинок! Как это волнует, как хочется что-то понять в этом хаосе!»
Именно в тучу песчинок – в одну из бесчисленных туч, взметённых вихрем истории и развеянных по свету, попала когда-то и семья, положившая начало истории моего рода. Семья большая – мать, отец, пятеро детей. Но из семи имен известны только четыре: мать звали Михаль, троих сыновей – Рубен, Ядгар и Ильяву. Юовы – считается, что так звучала их фамилия, если, впрочем, она правильно дошла до нас. В первой половине девятнадцатого века жили они в Иране, в городе Мешхеде, куда кто-то из их предков когда-то переселился из Палестины… Да, вот именно так: кто-то, когда-то… Но туда уже не заглянуть. А выплывает семья из мрака сравнительно недавно: есть предположение, что в 1870-х годах молодые Юовы, три сына и две дочери, покинув родителей, переселились в Туркестан. Нынешним языком говоря, эмигрировали. Предки мои, смею сказать, были истинными евреями. Ведь тема переселения, как и тема продолжения рода постоянно присутствует в истории евреев, словно одна из важнейших музыкальных тем в симфонии. Она меняет порой тональность, она имеет вариации, она исполняется, если можно так выразиться, на разных инструментах, но почти всегда сохраняет трагическое звучание…
«Три брата на верблюдах приехали из Ирана»… Уж не знаю, сколько раз за годы своего детства слышал я эти слова от деда Ёсхаима. Дед почему-то не упоминал ни о том, что с братьями эмигрировали две их сестры, ни о том, что путешествовали родичи с караваном. Узнал я об этом ещё от кого-то.
Караван. Как красиво это звучало! И конечно же, он тут же появлялся в воображении.
Среди песчаных холмов безводной пустыни длинной чередой движутся верблюды. На шее переднего позвякивает колокольчик. Протяжно кричат погонщики. Среди путников – трое молодых братьев и две сестры. Головы и лица сестер, как велит обычай, окутаны покрывалами. Смуглые усталые лица братьев обмотаны платками, оставлены только узкие щели: свет ярок нестерпимо, а воздух обжигающе горяч. Огненное солнце накаляет его уже с утра, а к полудню песок вот-вот превратится в расплавленное стекло. Иногда в знойном мареве возникают то деревья, то озёра, то белые стены домов и башни мечетей. Поколышутся у горизонта и исчезнут: ведь это миражи!
Но вот караван подходит к стоянке. Чахлые деревца, колодец, покрытый тяжёлой каменной плитой. Её со скрежетом отодвигают, опускают в колодец бадью. Верблюды медленно сгибают свои длинные ноги с широкими, похожими сверху на лапы, копытами, припадают на колени, ложатся, и путешественники спрыгивают на песок. Скорее, скорее напиться свежей, холодной воды, напоить верблюдов!
Так мне это виделось. А когда я сумел сопоставить мои детские «картинки» с реальностью, оказалось, что они не так уж фантастичны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
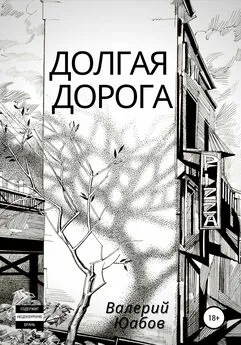
![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/114783/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo.webp)
![Филип Фармер - Долгая тропа войны [= Долгая дорога войны, Тайник из космоса]](/books/155543/filip-farmer-dolgaya-tropa-vojny-dolgaya-doroga-v.webp)
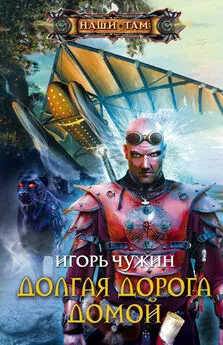
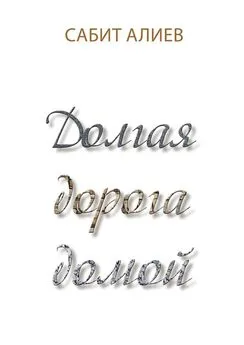

![Валерий Софроний - Эффект пешки. Книга 1. Долгая дорога домой [СИ]](/books/1144521/valerij-sofronij-effekt-peshki-kniga-1-dolgaya-dor.webp)