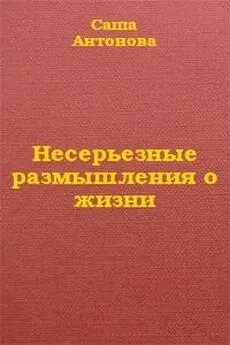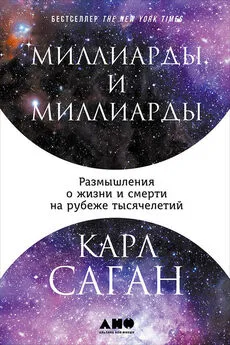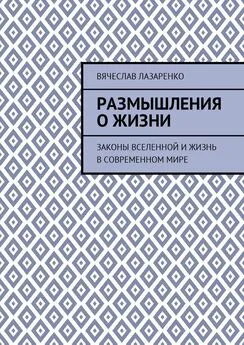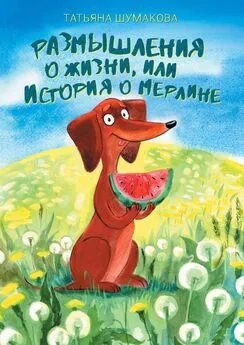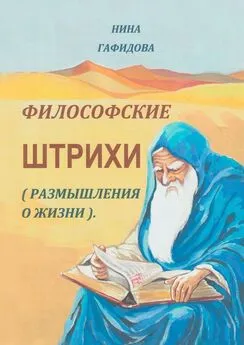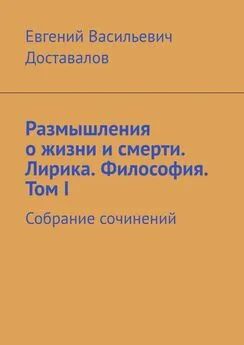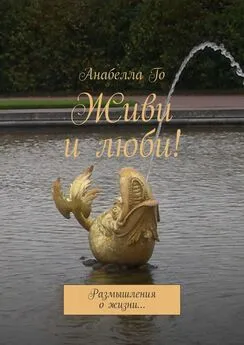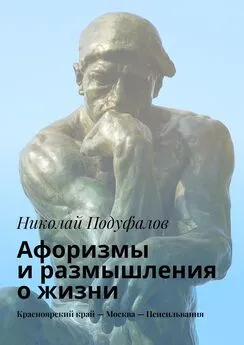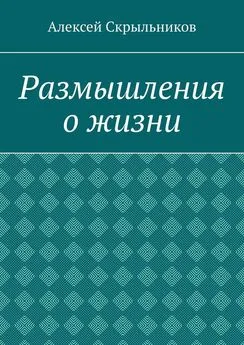Юрий Зверев - Размышления о жизни и счастье
- Название:Размышления о жизни и счастье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Зверев - Размышления о жизни и счастье краткое содержание
Один философ сказал: «Человек вечно живёт в тумане».
Рано или поздно у человека появляется желание рассеять этот туман. Душа начинает требовать ответов на «вечные» вопросы. Начинается поиск смысла жизни: «Зачем я пришёл на этот свет и куда уйду? Для чего мне дана свободная воля, эмоции, разум? Всем ли нужна вера в Бога? Что такое семейное счастье и как его обрести? Какова связь между творчеством и жизнью?»
Автор книги размышляет над этими вопросами. Он пытается помочь читателю в поиске ответов на вечную загадку жизни.
Кроме того, в книге рассказывается о неизвестных сторонах жизни некоторых известных людей
Размышления о жизни и счастье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда ему предложили обратиться с ходатайством о пенсии, он отказался, ссылаясь на то, что решил никогда ничего не просить ни для себя, ни для своих учеников. Он хотел, чтобы пенсию ему назначили за заслуги в развитии искусства без просьбы. Его ученики видели, как бедствует их учитель и однажды, втайне от брата отправили в Москву одну из художниц, чтобы выхлопотать ему хоть какое-то пособие.
С немалым трудом женщина прорвалась к Луначарскому и рассказала ему о бедственном положении художника. Оказалось, что Нарком просвещения знал и Павла Николаевича, и его творчество. Он сказал, что сделает всё, чтобы ему помочь. Он даже пригласил просительницу на заседание Наркомпроса. Анатолий Васильевич хотел оформить материальную помощь Филонову по болезни, но женщина объяснила, что никаких справок о состоянии здоровья Филонов собирать не будет. Тогда чиновники решили выдать брату триста рублей в порядке творческой помощи.
— Ну, и как? Получил он эти деньги?
— Получил, но не триста, а только сто. Остальные, должно быть, по дороге растаяли. Однако через год всё же пенсия Паше была назначена — пятьдесят рублей в месяц.
— Всего-то? Ведь он в гражданскую воевал, и в Красной армии служил.
— Да, уж. Но и эти небольшие деньги его поддержали. По крайней мере, ему не пришлось менять кисть художника на лопату землекопа.
А вот послушайте, Юра, какую запись за 36 год о нас с сестрой я недавно нашла в его дневнике: "С первых чисел апреля я перешёл на сокращенный паёк. Лишь не мог себя урезать на чае и махорке, экономя для этого на хлебе. Когда мне становилось тяжеловато, ко мне стали приходить мои сёстры, Дуня и Маня. Они приносили хлеб дня на три — четыре, иногда большую банку каши и непременно или молоко бутылки две, или полкило сырковой массы, раза два подсолнечное масло и раз полкило сливочного масла, чай и сахар; иногда вместо каши был винегрет. В кашу они клали свиное сало мелкими кусками. Я был удивлён, что они почувствовали моё затруднительное положение. Каждый раз, когда приходил их "красный обоз", я просил не делать этого больше, но дня через три они снова являлись с продуктами. Они говорили: "Не вечно же ты будешь без работы, перебьёшься, заработаешь, — отдашь!" Не помогали и мои угрозы, что, если это повторится, я все продукты принесу к ним обратно. "Ну тогда возьми у нас в долг пятьдесят рублей. Нас не затрудняет к тебе ездить — это нам прогулка!"
— Почему же при такой нужде Павел Николаевич не продавал свои работы? Покупателей не было?
— Он только творческие работы не продавал, которые писал не на заказ, а считал исследовательской работой. Желающих купить их было достаточно, даже Третьяковская галерея пыталась две работы приобрести. Их Грабарь, директор Третьяковки, на выставке "Художники РСФСР за 15 лет" присмотрел. У Павла даже счёт с ценой за работы попросили прислать. Отказался продавать.
— Почему же? Ведь в Третьяковку попасть почётно.
— Это было связано с его мечтой о создании Музея аналитического искусства. Для этого музея он не только свои работы берёг, даже ученикам продавать их картины не позволял. У них даже в уставе такой запрет был записан.
— В каком уставе?
— Их объединения. Художники назвали свою группу МАИ, то есть Мастера аналитического искусства. Они и устав специальный разработали. Продажа картин разрешалась только с общего разрешения коллектива.
— И ученики Филонова придерживались этого правила?
— Очень строго, хотя все в бедности жили. А на работы Павла даже западные покупатели с жадностью смотрели. Погодите, об этом даже, помнится, у Екатерины Александровны где-то запись была.
Евдокия Николаевна открыла свой сейф. Там лежали аккуратно сложенные в две стопочки дневники её брата и его жены. Достала одну из тетрадей, раскрыла.
— Вот послушайте: "Приехал художник Баскервиль из Нью-Йорка. Ему показали картины, стоящие лицом к стенке. Он сказал, что "Филонов величайший художник в мире. Если Филонов поедет с картинами в Америку и Европу, он произведёт фурор и разбогатеет". Ирония жизни, а я сижу и шью ему кальсоны и блузу, чтобы сэкономить пару рублей из его пенсии в 50 руб.".
О том, чтобы его работы ушли за рубеж Павел и думать не мог. Он считал, что своим искусством служит трудовому народу, революции, и желал одного — политического признания в своей стране.
Вот послушайте, что брат пишет в своём дневнике: "Все мои работы, являющиеся моей собственностью, я берёг годами, отклоняя многие предложения о продаже их, берёг с тем, чтобы подарить партии и правительству, с тем, чтобы сделать из них и из работ моих учеников отдельный музей или особый отдел в Русском музее, если партия и правительство сделают мне честь — примут их". Но заказных работ, которые бы помогали брату жить, практически не было.
— Евдокия Николаевна, а как для вашего брата прошли тридцать седьмой, тридцать восьмой — страшные годы репрессий?
— О, это было ужасное время. Но травля его как художника началась задолго до арестов, ещё в начале тридцатых. Сначала живопись критиковали, затем "классовым врагом" стали называть. В тридцать первом году в Русском музее была организована выставка его учеников — Сашина, Кибрика, Кондратьева и других. Они до этого ездили в колхозы, чтобы специально к этой выставке написать картины о достижениях в сельском хозяйстве.
Но после выставки такое началось! В газете даже статья появилась: "Классовая сущность филоновщины". И "искажённое представление", и "изображение не колхозной, а типично кулацкой деревни"… Разоблачительные собрания пошли. На одном, говорят, даже к докладчику подошёл комсомолец и прямо спросил: "Почему Филонова до сих пор "в расход" не пустили?" Тогда повсюду врагов искали. Товарищей Паши стали в ГПУ вызывать, допрашивать, угрожать. И вот что удивительно: Павел Николаевич действительно верил, что ищут врагов. Он считал, что бдительность необходима. В патриотизме своих учеников не сомневался и говорил им, что к проверкам приводят сплетни и ложь, которые плетутся вокруг их объединения. "Тут возможно всяческие провокации, — говорил он, — и чем скорее ГПУ возьмётся за нас, тем лучше. Может быть, это поможет и нашей выставке, иначе говоря, пролетарскому искусству".
После допросов возмущенные и напуганные ученики приходили к нему и просили объяснить происходящее. Павел Николаевич успокаивал их, говорил, что "там тоже наши ребята, такие же пролетарии", и они обязательно во всём разберутся по справедливости. Он и мысли не допускал, что действия ГПУ могут направляться из Кремля. В "мудрую" сталинскую политику несокрушимо верил. Он не мог представить, что социалистическое общество может строиться неправедными средствами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: