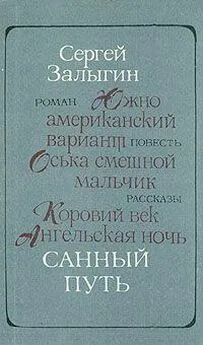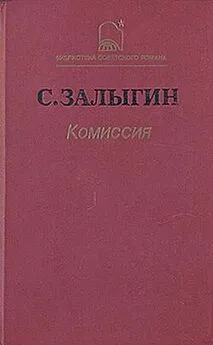Сергей Залыгин - Тропы Алтая
- Название:Тропы Алтая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Залыгин - Тропы Алтая краткое содержание
«Тропы Алтая» — не обычный роман. Это путешествие, экспедиция. Это история семи человек с их непростыми отношениями, трудной работой и поисками себя. Время экспедиции оборачивается для каждого ее участника временем нового самоопределения. И для Риты Плонской, убежденной, что она со свое красотой не «как все». И для маститого Вершинина, относившегося к жизни как к некой пьесе, где его роль была обозначена — «Вершинин Константин Владимирович. Профессор. Лет шестидесяти». А вот гибнет Онежка, юное и трогательное существо, глупо гибнет и страшно, и с этого момента жизнь каждого из оставшихся членов экспедиции меняется безвозвратно…
Тропы Алтая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Бывает, что человек, всю жизнь не очень внимательный к людям, торопливый в отношениях с ними, вдруг почему-то — почему бы это? — приостановится, задумается и увидит другого человека так, как никто его не видит.
Да, планы у стариков краеведов в городке Н. были невелики, ограниченны. Но счастье — не граница ли это стремлений и желаний? Сам Вершинин никогда этой границы не достигал.
Старики, многие из которых знавали Вершинина десятилетиями, никогда и ни в чем его не упрекали. У них был неписаный закон — не вспоминать о живых плохо, так же как не вспоминают плохо об умерших. Вместо упреков кому-нибудь они лишь о чем-нибудь сожалели: «Как жаль, что в тысяча девятьсот тридцать первом году так и не была организована комплексная экспедиция в Горный Алтай! А ведь тогда почти все уже было подготовлено к ней!», или: «К сожалению, в свое время была отвергнута гипотеза, которая нынче полностью подтвердилась». События были для них радостными и безрадостными, виновных не было.
Вершинина они награждали не только доверием, но и любовью. А он к любви с возрастом стал человеком требовательным, чутким, хорошо знал, за что и как его следует любить и уважать, чувствовал, что прежде, когда он был молод, люди были к нему куда более справедливы.
Было время — он закончил университет почти одновременно по двум факультетам. Все это оценили тогда, и он пережил уважение и любовь к себе сверстников, сверстниц, преподавателей и профессоров.
И первые научные доклады, первые труды его тоже были встречены с любовью и с должным уважением.
А потом люди как будто раз и навсегда привыкли к тому, что Вершинин на каждом шагу должен быть оригинален. Это его возмутило: он не подозревал, что даже оригинальность может восприниматься людьми в силу привычки.
Но возмущение, которое затем всю жизнь ему приходилось подавлять в себе, совершенно исчезало при встречах с краеведами в городке Н. Он был для них авторитетом и еще — эрудитом.
Эрудит! Вершинин им был, но если несколько дней сряду никто не говорил ему об этом, туго приходилось его лаборантам и у самого Вершинина начинались боли в области сердца.
Когда же его критиковали в институте или жена высказывала недовольство, воображение тотчас уносило его в городок Н.
И когда теперь обо всем этом Вершинин вспомнил, он вдруг сказал себе: «Заеду! Заеду к своим друзьям, иначе я обижу их до глубины души. На сутки заеду! Может быть, даже на несколько часов!» Правда, он еще сомневался — так ему было некогда, — но, сомневаясь, все-таки послал с пути телеграмму:
«Буду завтра трем дня проездом Алтай особых мероприятий не намечайте крайне тороплюсь профессор Вершинин».
Идут мимо городка Н. машины в далекие рейсы — в Монголию, в Кобдо — и возвращаются оттуда, овеянные ветрами сказочных перевалов, Чуйской и Курайской степей.
Идут мимо экспедиции геологов в поисках новых сокровищ, художники — в поисках новых красот, туристы — в поисках новых впечатлений.
Все минуют городок Н., все несут через него свои надежды, всех влекут к себе голубые вершины, как будто вершины эти лишь вчера возникли на земле и щедро всем обещают первооткрытия.
И кажется краеведам в городке Н., будто только они одни хранят историю голубой страны, память об экспедициях Сапожникова, Обручева, Келлера, Верещагина, Крылова на рубеже нынешнего века, будто им одним доверены имена исследователей века восемнадцатого — Палласа, Шангина.
Остановиться бы краеведам в городке Н. на этой роли хранителей истории, но и они тоже начинали мечтать об открытиях, а Вершинин и тут обещал помочь.
И они не обманули ожиданий Вершинина — успели поместить в городской газете сообщение о внеочередном, почти торжественном заседании общества в связи с его приездом, прослушали его доклад «О задачах краеведения в свете проблем семилетнего плана». Какие у них были благодарные глаза, когда они слушали доклад! Потом они обсуждали план работы на семилетие.
Этот вид деятельности — обсуждение планов — всегда возбуждал Вершинина до предела, а тут еще выступил краевед-ботаник Бурцев, тот самый, что уже тридцать лет вопреки утверждениям агрономов-маловеров выращивал на своем огороде люфу [1] Люфа — южное растение семейства тыквенных.
на мочалку.
Бурцев внес предложение — в связи с большими задачами краеведения в городке Н. подразделить общество на секции: ботанико-зоологическую, геолого-минералогическую, историко-археологическую, природных ресурсов и секцию по работе с пионерами и школьниками.
Милые, дорогие старики краеведы городка Н.! Всеми чистыми помыслами своими, всей душой они стремились приобщиться к великому семилетию, свидетелями которого до конца — увы! — им далеко не всем предстояло быть!
На Вершинина же дискуссии и споры о перестройке, о разделении на секции и подсекции, о слиянии в отделы и подотделы, о комплексировании и координации действовали так, что после них он чувствовал себя словно после нарзанных ванн.
А сразу после заключительной речи он вышел из музея, сел в «газик» и тогда уже окончательно отбыл в Горный Алтай — тоже на глазах краеведов, преисполненных к нему благоговейных чувств.
Ну вот и успокоение! Теперь он был в форме для предстоящего разговора с сыном! Теперь трудное это дело он решит! Конечно, об энских краеведах Андрюхе-Цезарю ни слова, хотя и нелегко промолчать. Андрюха их не ценит. Уже взрослым парнем, года два тому назад, он побывал с отцом на одном заседании энского краеведческого общества и, покуда заседание шло, ни на минуту не отрывался от «Собаки Баскервилей». Бурцев начал и кончил доклад о возделывании люфы на мочалку в условиях Н. — Андрюха все читал. Прежде он, кажется, никогда не увлекался Конан Дойлем и на вопрос отца: «Ты что же это, Андрей?» — пожал плечами: «Надо же мне с этой самой собакой когда-нибудь познакомиться?»
Из городка Н. Вершинин мчался на «газике» больше суток, плохая погода ничуть не смущала его. Плохая погода даже к лучшему — будет время не торопясь поговорить с Андреем. Когда же вдруг проглянуло солнце и почувствовалось сразу, что ненастью пришел конец, а спустя несколько часов знакомые вершины засияли ему, он подумал, что и это хорошо, это даже лучше — определенно «на руку»!
Палатки отряда он заметил вблизи села Усть-Чара. Три в ряд входом на восток. От палаток, должно быть, открывался неплохой вид.
«Андрюхина установка, — подумал Вершинин. — Андрюха любит такие места выбирать под табор!»
Велел шоферу остановиться:
— Надо одну знакомую лиственничную куртинку обследовать…
Отошел от дороги в сторону. Прислонился к огромному стволу.
Лес просыпался после долгой туманной дремы, после ненастья. Подроста в лесу совсем не видно, деревья стояли в один ярус — это был такой лес, который называется естественным парковым насаждением лиственницы сибирской. Когда-нибудь давно, лет, может быть, сто пятьдесят — двести тому назад, он принялся по гари. Гарь возникла от костра кочевника, а еще вернее — от молнии. Лес был строевой, диаметр стволов на уровне груди сорок пять — пятьдесят сантиметров. Склон — южной, благоприятной для произрастания леса экспозиции. Растительный покров — разнотравный, из цветов заметнее всего желтые адонисы. В лесу этом давно уже не было борьбы между породами, внутривидовой борьбы между разными поколениями лиственниц, между травянистыми растительными сообществами — все здесь устоялось за полтора-два века, уравновесилось. Ни кустарники, ни древесная молодь не вступала сюда, под тень огромных крон, травы и дернина заглушали тут все семена. Лиственницы были могучи, спокойны, тихи… Они как бы все еще отдыхали от давней борьбы за существование на этом пологом и солнечном склоне, прислушивались к завоеванному ими спокойствию следующего века, а может быть, и следующего за следующим…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: