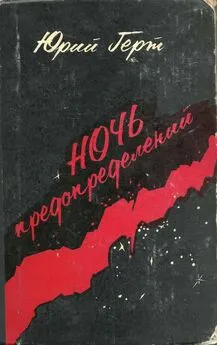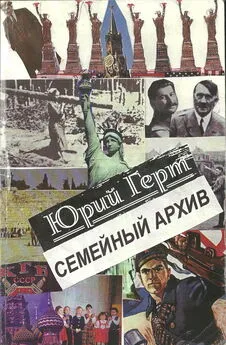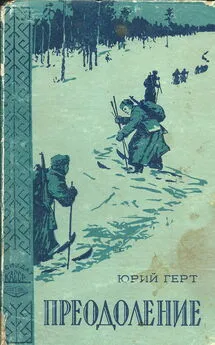Юрий Герт - Ночь предопределений
- Название:Ночь предопределений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Жазушы
- Год:1982
- Город:Алма-Ата
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Герт - Ночь предопределений краткое содержание
В романе «Ночь предопределений» сплетены история и современность. Герой Ю.Герта - писатель - приезжает на Мангышлак, место действия своей будущей книги о Зигмунте Сераковском, революционере-демократе, сподвижнике Чернышевского и Герцена, более ста лет назад сосланного в эти края. В романе два основных сюжетных узла. Первый - главный - связан с нашим временем. Нефтяники, архитекторы, журналисты, с которыми встречается герой романа, а в особенности события, разворачивающиеся перед ним, заставляют его требовательно вглядеться в себя, заново определить свою жизненную позицию. В центре второго узла - судьба революционера, дающая возможность осмыслить значение личности в масштабах истории
Ночь предопределений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он стоял на выступе скалы, спиной к степняк уходящей в ее глубину дороге, на старых картах называемой Большой караванной или Хивинской, а ныне ведущей в аэропорт, стоял, повернувшись лицом к морю, такому же пустынному, как эта степь, до самого горизонта простертого тяжелым синим пластом, — стоял, всматриваясь и начинающий пробуждаться городок, и беспощадно, С ожесточенней художника перед, мольбертом, убирал, стирал, накладывал новые мазки…
С окраины городка он первым делом убрал квадрат сборно-щитовых домиков, построенных когда-то геологической экспедицией. Поблизости белело несколько коробочек открытая недавно грязелечебница… Она тоже пропала, замалеванная серым, с едва заметной прозеленью, пятном, под стать окружавшему городок пространству. Затем исчезли — он без труда отыскал их в скопище раскинувшихся внизу построек двухэтажная школа, фасадом на главную улицу, и потом котельная с закопченной трубой, рядом с чайной на краю желтой от песка площади, и сама чайная, и тут же, на площади, возле зеленого клубочка старого развесистого карагача, — вытянутый в длину Дом культуры. Правда, он задержался на светлой часовенке под самой скалой; округлый куполок ее над четырьмя угловыми колонками такая неожиданность для этих мест, такое санкт-петербургское изящество, уводящее то ли к Версалю, то ли еще дальше — к Афинам… Часовенка, знал он, тоже появилась тут позднее, но жаль было с нею расставаться, и он помедлил, прежде чем сколупнуть и ее.
Реконструкция продолжалась… В неприкосновенности сохранился лишь треугольник, одной стороной примыкающий к горе, а с двух других обозначенный пересекающимися улицами — главной и ведущей к базару. Внутри треугольника перемешались низкорослые, добротно сложенные каменные дома с глухими ставнями и грубой резьбой по фасаду плосковерхие мазанки за невысокими дувалами — прежняя «армянская слобода».
Ближе к базару, как бы врытые в горный склон, с похожими на бойницы оконцами и дверями на кованых петлях, остались стоять не сокрушенные временем лабазы, там теперь продавали портативные магнитофоны и холодильники «Памир». Все это, включая и пять-шесть войлочных юрт за изгибом дороги, уходящей к широкому заливу, где едва виднелся судоремзавод и короткий пенек маячной башни, — все это рисовалось отсюда четко и подробно, как на старых гравюрах.
Феликс не оборачивался. Он знал, до пронзительной дрожи в позвоночнике чувствовал, что и за спиной у него сейчас не спаленное солнцем плоскогорье, где, кроме знакомых ему до последней трещины развалин, ржавых гвоздей и обломке! штукатурки, ничего не отыщешь, — там, за крепостной стеной вытянулись приплюснутые к земле казармы из того же ракушняка и по левую руку — пороховой склад, а за ним — госпиталь, и дальше — ровная, высеченная в камне площадка — строевой плац, и сбоку — церковь с прохладным полусумраком внутри, и по правую руку — флигеля для штаб- и обер-офицеров, и комендантский дом с двумя неуклюже вытесанными львами перед входом. У самого края плато развевался флаг на высокой мачте, и под ним, разгоняя предутренний сон, прохаживался часовой.
Феликс ощутил все это там, позади, и даже увидел, как за углом казармы солдат в белых подштанниках, соскочив с нар до побудки, справляет малую нужду, а в это время наверху над плацем, над всей крепостью уже горит червонным золотом крест и блекло голубеет, мешая синеву с багрянцем зари церковный купол…
Примерно так все здесь выглядело в тот день, то утро 1848 года, когда парусное суденышко доставило сюда Зигмунта Сераковского, после ареста третьим отделением, без суда и следствия, по высочайшей воле «сданного в солдаты». (Годом раньше, мелькнуло у Феликса, жандармская тройка мчала в Оренбургские линейные батальоны Тараса Шевченко, годом позже помчит в сибирскую каторгу Достоевского и Петрашевского… Заурядная в те времена судьба для незаурядных людей. Зигмунт среди них был самый молодой — вчерашний, не кончивший курса студент). Все тут было ему внове: это тяжелое, взбухающее над горизонтом солнце, эта тоскливая пустота моря, неподвижного, словно из ртути, эти приземистые дома с мутными от песка стеклами, эти унылые звуки — посвист ветра в расщелинах, звяканье цепи и плеск ведра в глубине колодца, далекий, похожий на рыдание, вскрик верблюдицы… Феликс прислушался. Ему вдруг представились нелепыми, невозможными здесь — его сигарета, барнаульский коробок… «Не допускайте лесных пожаров»… Он досадливо спрятал его в карман.
Впрочем, не сигарета и не коробок сами по себе, а скорее вот это вороватое движение что-то нарушило, уличило в игре. И подлинное, то, что удалось ему было выделить, отцедить, утратило жесткость, устойчивость. Все переплелось: командировочное удостоверение, не отмеченное вчера, флаг на флагштоке и голодная истома в желудке — он не успел вечером в чайную, закрытую после семи… Феликс почувствовал злость на себя. За хилость, нищенство своего воображения. За театр, который сам же сочинил. За то, что еще секунда — и паутинно-тонкие нити оборвутся, легкая, как бы из пушинок одуванчика, постройка исчезнет, останется прочный, не ведающий сомнений в собственной определенности мир, в котором все или близко, или далеко , и существует лишь то, что существует…
Суматошно вились над склоном ласточки, облепившие расщелины своими гнездами. Сердито, человечьими голосами кричали залетевшие с моря чайки. Мысли Феликса скользнули в сторону. Он снова подумал о театре… Кому принадлежали эти слова — Фоме Аквимскому или Августину? Правда, в другой редакции: «Весь мир — театр, единственным зрителем которого является господь бог». Он увидел их на барабане купола собора Петра и Павла в Вильнюсе, на латинском, разумеется, он их и записал их по-латыни, чтобы проверить впоследствии, верно ли перевел экскурсовод. Слишком уж светски звучали они для собора… Потом, в свободные часы, после архива, он приходил сюда уже один, слушал орган, присев на скамью из дубовых, в ладонь толщиной досок, разглядывал скульптуры и лепнину, заполнявшие стены, ниши и потолки. Он и по всему городу бродил, как по собору, и в ушах у неотступно вибрировали золоченые звуки органа, перед глазами кружили хороводы свечей… Наконец он сообразил: в соборе пахло лилиями, а было лето, июль, и весь город словно пропитался их запахом, кисловатым и резким. Запах чистоты и непорочности… На старом городском рынке, в киосках, на цветочных базарчиках, в кафе, на столике выдачи рукописей, где его ежедневно поджидали новые груды папок, — всюду встречались ему крупные белые колокольцы с заостренными лепестками, золотистые изнутри от обильной пыльцы.
Было лето, июль, стояла жара, необычная для Вильнюса, — так ему говорили: «Эта жара… Только раз в сто лет…» А Феликса радовало все, и эта жара тоже, потому что в ней была своя подлинность — и в то лето, за год до ареста Зигмунта, здесь тоже было жарко, экипажи пылили по улицам, пыль садилась на дорожные плащи и накидки седым слоем. Нерис усохла, превратилась в грязную, болотистую лужу — все рва лось из города, в поля, в лесные дебри… А Зигмунт приехал сюда к друзьям на каникулы, такой пылкий, восторженный, такой любопытный по молодости, и тоже впервые в Вильнюсе… то бишь в Вильне…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: