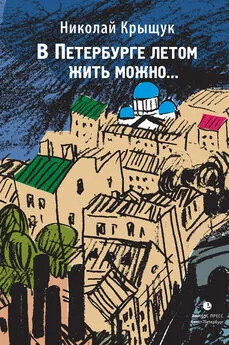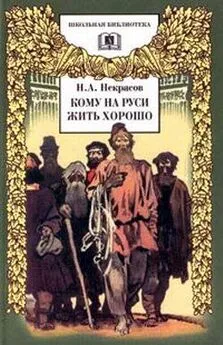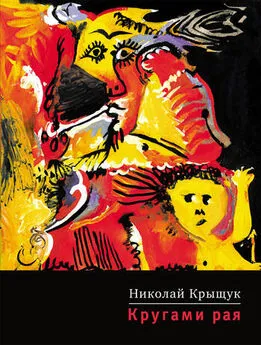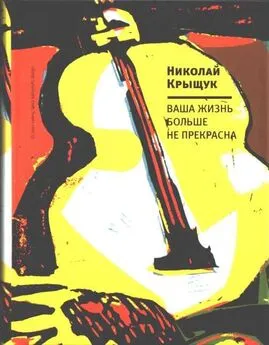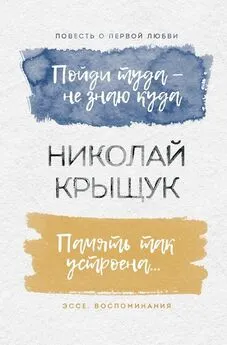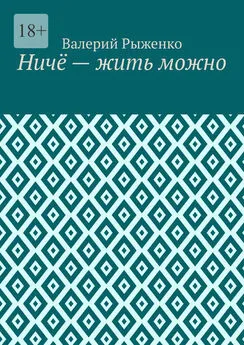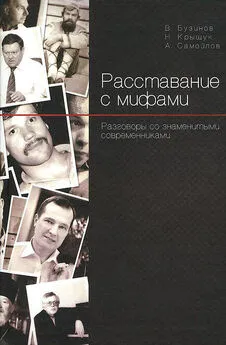Николай Крыщук - В Петербурге летом жить можно…
- Название:В Петербурге летом жить можно…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2014
- Город:Москва, Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0675-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Крыщук - В Петербурге летом жить можно… краткое содержание
Новая книга петербургского писателя Николая Крыщука, автора книг «Кругами рая», «Разговор о Блоке», «Ваша жизнь больше не прекрасна» и многих других, представляет собой сборник прозы разных лет – от небольших зарисовок до повести. Эта стильная проза с отчетливой петербургской интонацией порадует самого взыскательного читателя. Открывающий книгу рассказ «Дневник отца» был награжден премией им. Сергея Довлатова (2005).
В Петербурге летом жить можно… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот птица летит. Умеет ли ей кто-нибудь подражать? Неподражаемо. Так и поэт. Судить горазды – повторить неспособны.
Но, впрочем, разве это относится только к поэту? Все мы примерно одно и то же, а отличается каждый от другого тем, чем можно только быть.
Каждый художник по жизни эгоист: весь мир сошелся на мне, и именно поэтому я могу вам его подарить. При этом, конечно, один заботится о своих детях, а другой нет. Есенин не заботился. Даже не думал о них, кажется, и не вспоминал. Сам последние годы (до ссоры) был ребенком беззаветно и странно любившей его Галины Бениславской. Она тащила его на себе из кабака, получала за него гонорары, делила с ним свою комнату, терпела или отваживала собутыльников, стойко сносила сплетни, любовниц и жен, уговаривала каприз и похмельную жажду. Приревновала только к смерти.
Испытывал благодарность сыновью, то есть редко явленную. А сам при этом:
Поредела моя голова,
Куст волос золотистых вянет.
Это же как часто и внимательно надо было смотреться в зеркало!
Одни из лучших в мировой поэзии строки о родителях из «Исповеди хулигана»:
Бедные, бедные крестьяне,
Вы, наверное, стали некрасивыми…
Но при этом их мог написать лишь человек, уже заложивший душу городу.
Жил в нем Жюльен Сорель. Покоритель. То есть заведомо проигравший. Город таким еще не покорялся. Он только брал, выжимал и выбрасывал.
Оставался бы просто пастушонком. Но тогда выше Кольцова было бы не вырасти.
Биография рождала особое зрение. Кто бы еще в символический герб родины мог врисовать испачканные морды свиней? В крестьянине нет этой умильности. Горожанину бы не пришло в голову. А он сочинил. Удались ему и березки, и «грусти ивовая ржавь», и клен, который присел на корточки погреться перед костром зари.
Но тогда, надо признать, сочинил и золотые кудри, и ясные глаза, и несуразную трубку, и кабак, и всех своих жен, и сестру, и мать, и Миклашев скую, и чтение Маркса, и хроническое отсутствие собственного жилья.
Сочинял себе жизнь. Было увлекательно и страшно.
Вся Россия его – насквозь литературная. Он сознательно в свою поэтизированную Россию не впускал то из жизни, что могло этот образ нарушить. Да и знал ли он настоящую Россию?
Это вопрос.
А кто знал? Некрасов? Пушкин? Может быть, Блок, столько о России написавший? По «ивановским средам», пригородным ресторанам и редким наездам в Шахматово? Бунин уверял, что не знал, поэтому и бросился так опрометчиво к революции. А сам Бунин знал?
Если иметь в виду знание историков, этнографов и прочих, то поэты здесь почти все в ауте. Но поэту для того, чтобы знать, можно вообще не выходить из комнаты. Он изначально знает себя, природу вещей, трагическую подоплеку жизни в ее комических проявлениях. Ему остается все это развернуть как свиток и правильно уложить в слова. Это и есть жизнь поэта. Игра. Только не с самим собой в поддавки и не с партнером-читателем, а с жизнью и смертью.
Советский лозунг: писатель должен знать жизнь! Какая чушь! Для того их бригадами и посылали на стройки (непременно огромные) и в колхозы (непременно дальние). Какая литература из этого получилась, мы знаем. Между тем у тебя, сидящего на детском коврике, мир может быть огромнее, чем Сибирь.
Деревня Есенина – ностальгическая деревня. Милый, смешной дуралей, который обреченно мчится за паровозом, только прикидывается тоской по патриархальной деревне, убогость которой вызывала в Есенине не умиление, но отчаяние и жалость.
Приезжая к родным, пил до изумления и куражился, а возвратившись, снова начинал тосковать. Кому не известен этот не разрыв даже, а отрыв от родной стихии в силу возраста, географии, образования? Он тосковал по деревне, которой не было, по дому, который существовал только в его воображении. А и в городскую жизнь не мог вписаться. Иногда кричал по пьяному делу: у меня никогда не было своего дома; сумасшедший дом, да, вот мой единственный дом.
Так оно, в конце концов, и вышло. Сумасшедший дом и гостиница.
К поэзии Есенин относился серьезно и ревниво. Любил Блока, признавая, что многим обязан ему. Клюева называл своим учителем. Почтительно относился к Белому. Уважал Мандельштама, уверяя, что из русских поэтов остались только они двое. С Маяковским задирался, не желая делиться местом первого поэта. О Пушкине иногда говорил с раздражением, как о живом. Однажды даже в плагиате пытался уличить.
Серьезно метил в вечность. А там – другие масштабы. Нервничал. И действительно, далеко не выработал всего, что мог выработать. И все же оставил много замечательного. Не только то, что ушло в народ песнями и романсами. У него было удивительное зрение и тонкий слух. А еще – чувство космоса, которое знакомо только очень большим поэтам.
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
Здесь все замечательно. Сам переход от пруда к звезде. Обозначенное одним взмахом ресниц пространство. А «с замираньем» – как точно! Именно так – с замираньем, с провисаньем, с астматическими паузами. Именно так и увидится, если представить себе полет бабочки к звезде.
Что при этом интересно – никакого отношения к «правде жизни». В пруду вода стоячая, листве в ней трудно кружиться, даже если сильный ветер. Разве что так, подрагивать, именно замирать. Если вода розоватая, то значит еще солнце или, по крайней мере, отсветы его. Тогда – откуда звезда?
Бабочки – существа не коллективные. Свой короткий промысел они совершают в одиночестве. Иногда на лету сбиваются в случайные группки, которые тут же распадаются.
Стая – некий социум, со своими законами, лидером, верховной задачей. Бабочкам дано многое, но не это. Поэту тоже это не дано, хотя дано многое. Например, из несуществующего рождать новую жизнь.
Из дневника
Одна из самых низких форм хамского отношения к поэту – зависть к его благополучию. Не зависть даже, а попытка отнести снедающие его муку и тревогу исключительно на счет словесности.
Всякий раз, когда встречаюсь с этим, хочется крикнуть: «Разве вы не понимаете, что поэт всегда платит! Когда и как это случается, не наше дело. Он ведь не просит вас верить ему или делить с ним его судьбу. Так помолчите! Хотя бы из суеверия, помолчите! Вдруг на этот раз пронесет».
А что было бы?
Что было бы, если бы не встретились Он и Она? Собственно, так все и случилось. Так и устроился мир. Знаем мы разве что-нибудь о любви Адама и Евы? Шепот хотя бы какой-то между ними был? Главное: где варианты? Любовь – это все-таки вариант.
А что было бы, если бы Данте женился на Беатриче? О внебрачной страсти Ленина я уж и не говорю. Что было бы!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: