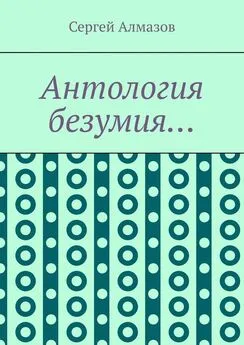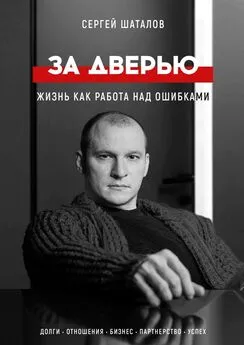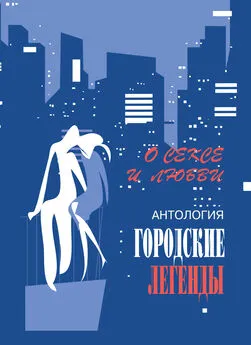Сергей Шаталов - Антология странного рассказа
- Название:Антология странного рассказа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2012
- Город:Харьков
- ISBN:ISBN 978-966-03-6080-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Шаталов - Антология странного рассказа краткое содержание
Эта книга — своеобразный срез (от Чикаго до Ферганы) новаторской, почти невидимой литературы, которую порой называют «странной».
Антология странного рассказа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мораль: в чужой монастырь со своим полууставом не суйся.
Одна более чем заслуженная поэтесса как-то раз выпустила книгу детских стихов «Вечная битва, или Санта Клаус летит на Солнышко». Что тут началось! Ничего гендерного ей, против обыкновения, припаять не смогли и присудили премию за искромётный нравственный традиционализм и «гелиоцентрическую устойчивость в охуевше-опизденевшем мире современной поэзии».
Мораль: репутация — это «кто», а не «какой», «зачем» и «надолго ли».
Одна молодая дама с немаленькими тараканами в голове, по призванию тревожная межпланетная радиограмма, а по роду занятий технический писатель, натурально, сочиняла справку к новой почтовой системе. Вступительную часть было задумано высылать каждому пользователю сразу после регистрации. Предполагалось, что начав с истории письменности и писем вообще, материальной и электронной почты в частности, обтанцевав философскую ценность связи, приветствие команды разработчиков расскажет о преимуществах нового сервиса и создаст у клиента иллюзию присутствия, вовлечённости, доброжелательности и сотрудничества (вкупе с неуверенностью в конфиденциальности, перспективности и надёжности прочих почтовых систем). Дама-надомница только что вернулась с кухни, волоча на шнурке связку крашеных гуашью газет — в их удручающем взаимоположении и состоянии опытный человек легко узнал бы одну из собачек-бессмертниц русской литературы, неизменные во всей своей живучести, обречённости и непостижимости тип, образы, а зачастую, что скрывать, и идеи которых пытались воплотить «такие мастера слова, как Достоевский, Тургенев, Гаршин, Чехов, Куприн, Троепольский, Владимов», — глядя под стол на мирно шуршащую собачку, дописывала дама. «Sincerely yours. Шануймося. Az üzlet már zárva volt. Czy te bułeczki swieze? Smím prosit o valčik? Dánke, Schöne. С любовью». Набросав историко-эпистолярный экскурс и оставив корпоративные похвальбы на потом, Н. принялась за главку о почтовом этикете:
«Получив письмо, не отвечай на него как можно и как нельзя дольше. Неотвеченное, оно у тебя есть, — раздраженная экивоками немолодого провинциального человека, чьи сочинения её тараканы когда-то нежно любили, расстроенная присуждением премии когдатошней сопернице и интимной подруге, строчила надомница-дама. — А когда — правильно в голове подсказывают, рано или поздно, потому что вовремя в таком деле не бывает, — когда всё-таки напишешь ответ — будь умницей, постарайся как можно дольше его не отправлять. В горестный, хотя избежимый миг отправки дефицитная энергия…» — торопилась дама, чувствуя, как слово за словом перетекает из неё эта дефицитная энергия в слишком длинный текст, адресованный слишком большому числу потенциально внеземных адресатов.
Мораль: всяк сверчок ищи свою рыночную нишу.
Ты уже, наверное, догадалась, к чему это, — писал один не вполне молодой человек своей вполне молодой корреспондентше, — а может и не догадалась, может я только выдумал себе чью бы то ни было, в том числе и собственную, догадливость, в то время как мир как раз катастрофически недогадлив, то есть наоборот: недогадлив счастливо, охранительно и устойчиво; ласков, но в ласках своих небрежен, хоть и называет нас то «солнышками», то «далёкими друзьями», телеграфируя милые, раздражающие, выводящие из себя «будь здоров», «держись», «сочувствую», хотя в сущности, что может быть нежней, чем со-чувствие, и почти издевательские смайлики, — хотя что может быть смиренней, чем не нарисованные даже, но взятые взаймы примитивные, безликие, обобществлённые «☺☺», которые, тем не менее, заставляют то сжиматься, то расцветать, то беситься от давнего страха, — и ты ждёшь этих страшных и информативных писем утром, днём и вечером, а твой (текстовый процессор услужливо и оптимистически подсказывает: «Твой навеки») собеседник не торопится: не торопится, потому что редактирует перевод, верстает районную газету или подключается к новому почтовому сервису, а потом, закончив работу и обустроившись, пишет примерно следующее: «Привет, здесь хорошая погода, вчера ходили с мужем в новый ресторан. Твоя — Тигровая краватка 1, con amore», — и ты тогда тоже издевательски думаешь: интересно, товарищ Слуцкий написал «Лошадей в океане» до поездки в Италию или после? Хорошо бы после, потому как если исходить из нашего скромного, но верного понимания основ-истоков поэтической комбинаторики, не что иное, кроме нововыученного присловья «Con amore», сподвигнуть на сочинение с таким названием не может. Или это были не лошади? или не в океане? В общем, надо в интернете проверить. Или ещё где. Я на самом деле смутно помню, что там какой-то случай из жизни в основе лежал, но дела это менять не должно. Аня, Аннушка, Нюша, кофточка, лампочка, сестричка, подружка-палиндром.
Морали, милый, у меня себе и миру нет, а тебе такая: не ищи вербальных решений для невербальных задач. «Целую в щёчку», «удачи».
Есть две гипотезы. Первая, подчёркнуто «мужская»: если говорить друг другу тривиальные вещи, мир испортится. Вторая (зачёркнуто «женская»): если говорить друг другу нетривиальные вещи, все нетривиальные вещи очень скоро закончатся: станут тривиальными. Кто считает, что одна версия другой не помеха, те, в основном, помалкивают.
Молчание требует пейзажа. Пейзажей, как и нетривиальных вещей, на всех не хватает. Мы родились в городах. Города не созданы для молчания.
В городе, то есть в этой жизни, если на твою долю не хватило нетривиальных вещей, стоит говорить друг другу тривиальные вещи так серьёзно и изобретательно, чтобы они — по меньшей мере, на момент их произнесения, — переставали быть тривиальными. Больше помнить, реже сравнивать, и довольно об этом.
Не мораль, праксис праксиса.
Иногда кажется, что всё устроено как-то неправильно. Например, что секс или что-то типа того нужны как раз в детстве, когда и спать одному страшно, и вообще повышенная зверушечность… А то получается какая-то левая компенсаторика: атавизм, где ему быть не пора, и инфантилизм, где его гонят в дверь. Плюс тебе Толстой раздражается и Сомерсет Моэм подмечает всякие правильные общеанглийские брезгливости… а кому мил раздражённый Толстой?
И вообще, откуда эта тоска по детству, столь внятная большинству здесь присутствующих? Это ведь — как пишет Костя, недоказуемо, но ощущаемо — тоска по времени, когда мир уже был эротичен (мир всегда эротичен), но ещё не разделим на объекты, которые можно и хочется любить/иметь, на объекты, которые иметь/любить нельзя, и на объекты, которые иметь/иметь не хочется, но придётся по целому комплексу причин (причины эти так и вручают конгломератом, в авоське; кому не нравится, тот тратит на разбор приданого более-менее всю самоосознательную жизнь — пассаж знамо в чьём духе). Тоска по времени как бы неограниченных возможностей, из которого неправильное нынешнее представлялось «правильным», но не представлялось, собственно, «временем».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
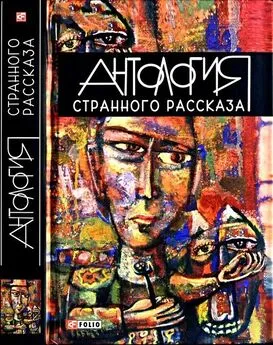

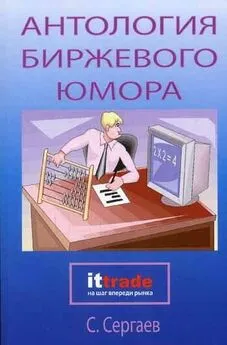
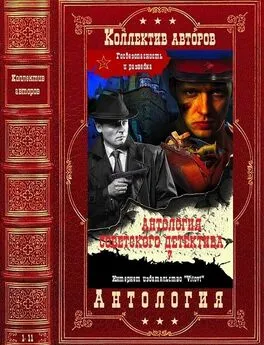
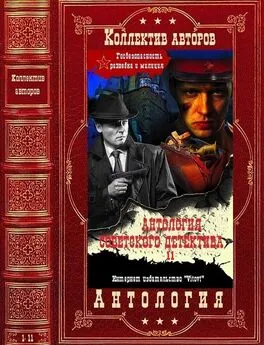
![Леонид Бахнов - Жужукины дети, или Притча о недостойном соседе [Антология короткого рассказа. Россия, 2-я половина XX в.]](/books/1098446/leonid-bahnov-zhuzhukiny-deti-ili-pritcha-o-nedostojnom-sosede-antologiya-korotkogo-rasskaza-rossiya-2-ya-polovina-xx-v.webp)