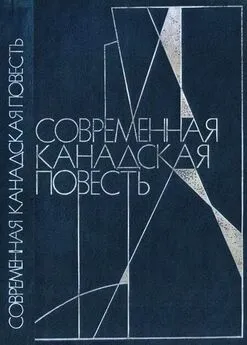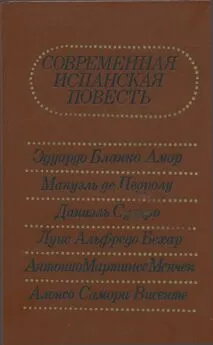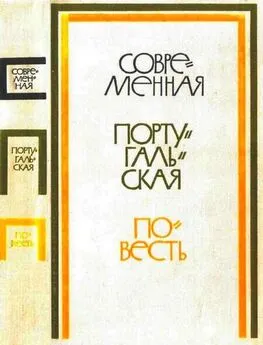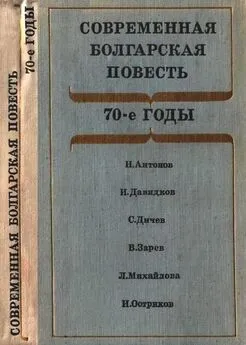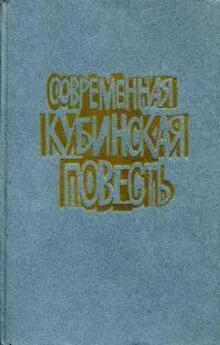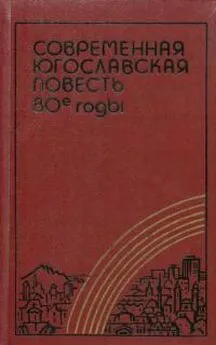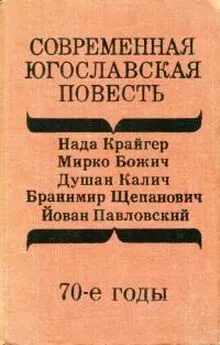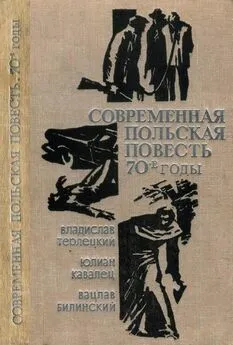Мари-Клер Бле - Современная канадская повесть
- Название:Современная канадская повесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мари-Клер Бле - Современная канадская повесть краткое содержание
В сборник входят повести современных канадских писателей, создающие живой, достоверный образ страны, показывающие ее специфические проблемы, ее социальную и духовную самобытность. Жизнь среднего канадца со всеми ее проблемами: ломкой семейных отношений, неустроенностью, внутренним одиночеством — в центре внимания Ричарда Райта («В середине жизни»); проблема формирования молодого поколения волнует Мари-Клер Бле («Дневник Полины Аршанж»); о расовом бесправии коренных жителей Канады — индейцев — рассказывает Бетти Уилсон («Андре Том Макгрегор»); провинциальную жизнь Квебека описывает уже известный нашему читателю Андре Ланжевен («Пыль над городом»).
Современная канадская повесть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Там тебе не будет скучно, — добавила мать, — а то ведь здесь, со мною и с отцом, ты, можно сказать, одна-одинешенька…
— Эй, Полина, чего надулась? Моя женушка таких дутиков лупит, ох как лупит… Улыбнись хоть чуток дядюшке, стервозина ты этакая!
Необозримые пространства проплывали у меня перед глазами. Отворачиваясь в сторону всякий раз, когда бедный дядя Викторин делал попытку заговорить со мною, словно с дикой зверюшкой: «Эй, да вылезай же ты из своих кустов, лисичка-сестричка, не то, попомни мои слова, женушка пропишет тебе по первое число, нынче же вечером и пропишет!», я ощущала, как во мне нарастает чувство гадливости, смешанное с негодованием, к этому толстенькому, совсем незнакомому человеку, который, сидя рядом со мною, дымил сигарой и, пересыпая свою речь солеными словечками, бахвалился, что «числится поваром в лагере лесорубов и может лопать от пуза — хоть цельную ночь и цельный день», — я ощущала эту смутную неприязнь, даже не представляя, что настанет день, когда мне покажется просто очаровательной сценка с участием этого самого дядюшки Викторина: деловитый, одетый в белое, он стоит в окружении взмокших от пота дровосеков и ловко переворачивает блины на сковородке, а над ним клубится туча мошкары, приплывшая на закате из пахучей лесной чащобы; однако сейчас у меня такого и в мыслях быть не могло, сейчас я никого не любила и, думалось мне, никогда не смогу полюбить.
— Городские дети почище бесенят, верно тебе говорю. Белый хлеб лопаете, не то что мы, деревенские, — хлеб у нас черный, лесная ягода тоже черная, зато мы в вере крепки…
К деревне мы подъезжали вечером, по узкому проселку, ведущему, казалось, прямо на край света, будто по ту сторону гор линии горизонта уже не существует. Нескончаемые песчаные дороги, на удивление похожие одна на другую, дороги, по которым мы с наступлением темноты принялись кружить, словно попали в заколдованное место («Да куда же он запропастился, этот Сент-Онж-дю-Делир?..»), встречая повсюду все ту же изгородь у обочины, тех же овец за нею и тот же крест у въезда в деревню, — эти ухабистые, пыльные проселки долго еще змеились вдоль обочин моей памяти словно символ чего-то незавершенного и гнетущего, словно напоминание о нерешенной и брошенной на середине задаче.
— Глянь-ка, что-то там светится — должно быть, керосиновая лампа. Ну вот мы и дома.
Наконец-то он показался — дом моей бабки и моих дядюшек, освещенный чуть заметным красноватым огоньком, мерцающим в проеме ворот, и внезапно я оказалась в замызганном чистилище, где обитали мои родичи, словно бы только что сотворенные господом богом, к вящему моему изумлению, ибо до этого вечера я и не подозревала об их существовании, об их жизни, столь непохожей на мою собственную. Я всматривалась в надвигавшиеся на меня лица, стараясь уловить выражение суровой доброты в очертаниях могучих челюстей, словно бы вырубленных топором в подражание какому-то древнему прообразу, в котором, без сомнения, таилось что-то жутковатое, и не находила его ни в этих грубых чертах, ни во взгляде холодных голубых глаз, притушенном, к счастью, поразительно густыми бровями и ресницами.
— Вовремя подоспели: еда на столе, — заявила, уперев руки в бока, здоровенная бабища. — Только боюсь, не грех ли ее скармливать городским девчонкам вот с такими-то бледными личиками, ну чисто как у мертвецов…
— Личики бледней воска, зато грехи черней угля! — выкрикнул мальчишка-уродец и принялся хохотать как сумасшедший, втянув голову в костлявые плечи. — Это верно, что ты моя двоюродная сестрица?
— Заткнись, Жакоб! — проревел чей-то голос, но мальчишка, получивший вслед за окриком здоровенную затрещину, заржал пуще прежнего.
Жакобу никогда не суждено было переступить порог своего отчуждения. В лоне собственной семьи он принадлежал к презренной касте «выродков», в которую входили его младший брат эпилептик, глухонемая сестра, сухорукая, как и он, тетка, тоже страдавшая искривлением позвоночника, пригнетавшим обоих к земле и вынуждавшим их постоянно прижимать к груди искалеченные руки, которыми они все-таки ухитрялись кое-что делать, и, наконец, среди наказанных богом братьев и сестер Жакоба числился еще один каверзный подарок Провидения, изнемогавшего под гнетом собственной неуемной щедрости: то был так называемый «голубенький братец» — никто даже не осмеливался произносить вслух настоящее имя этого монстра, воплощавшего в себе все уродство, все муки и, должно быть, все грехи мира. Он был самым младшим отпрыском в семье, но мать Жакоба утешалась, вынашивая в дряблом своем лоне, под бессменной холщовой рубахой, четырнадцатый жуткий плод, от которого было бы лучше всего избавиться, повинуясь праведному голосу милосердия, но, поскольку милосердие существовало только в грезах Жакоба, на свет появился еще один уродец, дабы продолжить непорочную родословную бедствий. Полчище здоровых мужчин и ребятишек поднималось поутру в этом доме не только для того, чтобы измываться над калеками, но и чтобы ковыряться в земле, дабы прокормить самих себя и скотину. Что же касается Жакоба, то он с утра до вечера возился со свиньями и, похоже, ел из одного с ними корыта. Семья относилась с известной снисходительностью к немощам его тетки Атталы, к припадкам его брата эпилептика, но строптивый, упрямый, порою всю ночь напролет бродивший по лесам Жакоб занимал столь низкую ступень в семейной иерархии, что в конце концов привык к посвисту кнута, полосующего его костлявое тело, как привыкают — по собственному его выражению — «к дуновению ветерка в засохшем лесу».
Я делила с Жакобом матрас, кишевший клопами; в углу спальни, всю ночь не смыкая глаз, вертели своими жирафьими шеями сестры-двойняшки Эвелина и Руфь; они лениво почесывались и бесстыдно хихикали всякий раз, когда бедная наша тетушка Аттала извергала очередной яростный потоп в ночной горшок, дремавший у нее под кроватью. Жакоб во сне что-то тихонько бормотал нараспев, будто плакал; я слушала его, в безнадежной тоске отсчитывая жуткие часы. Бессвязный бред Жакоба пугал меня; он часто рассказывал о жестоких битвах, что вершились в горах между взбунтовавшимися свиньями и их пастырями — людьми из рода его отца, «исполинами, у которых черные зубы, а глаза голубые, словно плевки. В конце концов свиньи растерзали и пожрали великанов, начиная с головы и кончая сердцем, а клочья окровавленной кожи оставили орлам, прилетающим ночью…». Жакоб вздрагивал от восторга, рассказывая об этих кошмарных пиршествах, словно жуткое повествование смягчало боль от изведанных им унижений. Я боялась этого десятилетнего мальчугана, с виду такого доброго, — в сердце его неимоверная мстительность сочеталась с жертвенным состраданием. По ночам его холодная искривленная рука прикасалась к моим волосам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: