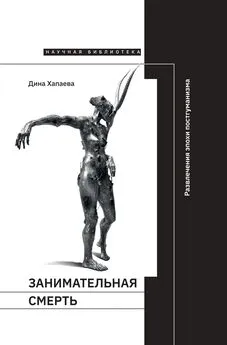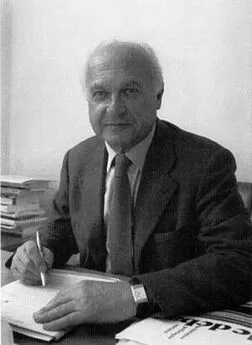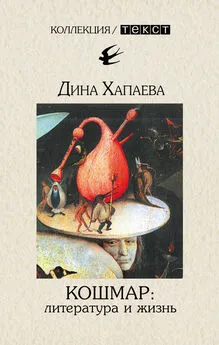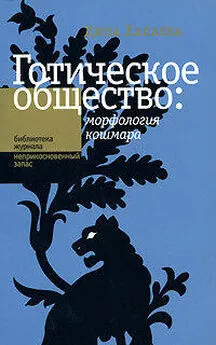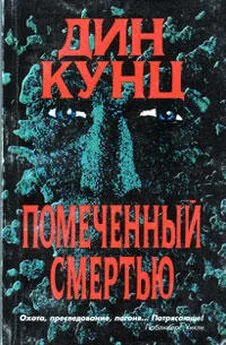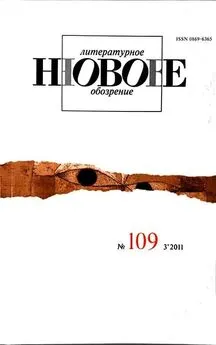Дина Хапаева - Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма
- Название:Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1355-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дина Хапаева - Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма краткое содержание
Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Два других движения — трансгуманизм и постгуманизм — много сделали для отказа от концепции человеческой исключительности и размывания в массовом воображении границ между людьми, животными и монстрами. В конце 1990‐х — начале 2000‐х эти движения приобрели известность и популярность, а также сыграли важную роль в коммерциализации исповедуемых ими идей. Трансгуманизм, возникший к концу 1970‐х годов в среде ученых и инженеров, выдвинул идею о том, что цель человечества — создать искусственный интеллект, который наполнит собой вселенную. Человеческая раса здесь рассматривалась как переходная ступень в процессе эволюции, ступень, которая будет превзойдена «богоподобными» машинами, по мощности в миллионы раз превосходящими человеческий ум. Трансгуманисты превратили абстрактную критику гуманизма и отказ от человеческой исключительности в прикладной научный проект и прагматическую политику для будущих исследований. Если трансгуманисты проявляют равнодушие в отношении судьбы человеческой расы, то другие ученые считают вытеснение человеческой расы непременным условием для сколько-нибудь значительного будущего развития. Постгуманизм, течение в сфере гуманитарных наук, получившее развитие в 1990‐е годы и предъявившее права на наследие Французской теории, пытается полностью вычеркнуть присутствие человека из философии и гуманитарных наук.
Движение в защиту прав животных, трансгуманизм и постгуманизм органично влились в общую интеллектуальную атмосферу конца ХХ столетия, сформировавшуюся тогда под влиянием Французской теории. Это не значит, что упомянутые движения были порождены теми же философскими идеями, которые вдохновили французских мыслителей. Но все же они разделяли с Французской теорией некоторые важные предположения о месте человека в системе ценностей. В отличие от Французской теории, движение в защиту прав животных, трансгуманизм и постгуманизм нельзя рассматривать просто как философские школы. С конца 1970‐х годов защитники прав животных превратились в мощную общественную силу, которая активно пропагандировала отказ от концепции человеческой исключительности. В первое десятилетие текущего века постгуманизм и особенно трансгуманизм стали весьма популярными общественными движениями. Авторитет трансгуманизма значительно возрос благодаря достижениям в области искусственного интеллекта, нанотехнологии, биоинженерии и генной инженерии, тогда как постгуманизм приобрел заметное влияние в культурной критике и культурологии, а также преуспел в отстаивании своих идей вне академических пределов.
Идеи, поддержанные этими движениями, просочились в популярную культуру посредством политического дискурса, культурной критики, технологических инноваций и научных дискуссий. На их основе создавались бесчисленные романы и фильмы, так как отрицание гуманизма и человеческой исключительности становилось все более популярным и потребляемым продуктом, что позволило по-новому использовать человеческих персонажей в литературе и искусстве. А изменение отношения к людям, четко выраженное в блокбастерах, в свою очередь способствовало распространению танатопатии.
Я бы сказала, что «непреодолимое прошлое» Европы можно рассматривать как важную историческую предпосылку культа смерти. Опыт концлагерной вселенной [888] Rousset D. L’Univers concentrationnaire. Paris: Pavois, 1946.
породил глубокое разочарование в человеке и человечестве. Он подорвал существовавшую в эпоху Просвещения веру в человеческую природу и человечество, в то, что это единственный в своем роде биологический вид, обладающий моралью, и создал благоприятные предпосылки для массового разочарования в человеческой природе. В 1960‐е и 1970‐е годы, почти тридцать лет спустя, новые поколения в западных демократиях начали прорабатывать историческое наследие Аушвица, которое предыдущее поколение стремилось изгладить из памяти. Что касается советского коммунизма, то публикация на Западе в 1973 году романа «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына резко расширила понимание масштаба преступлений против человечества, совершенных в России при «советах» и стала вехой решительного развенчания иллюзий по поводу коммунизма. «Кризис будущего» — массовое разочарование в традиционных, ориентированных на будущее политических идеологиях, основанных на «религии прогресса», — начался на Западе в 1970‐е годы во многом благодаря тому, что Теодор Адорно назвал «проработкой прошлого» [889] Adorno Th. W . The Meaning of Working Through the Past (1959), в переводе на англ.: New York: Columbia University Press, 1998. P. 95.
. Концлагерную вселенную можно рассматривать как неизбывное совокупное наследие современного общества, включая Соединенные Штаты — страну, не имевшую непосредственного опыта тоталитарных режимов, будь то нацизм или коммунизм [890] О наличии концлагерной вселенной в современном обществе см.: Agamben G. Homo Sacer / Trans. M. Raiola. Paris: Seuil, 1997. О центральном месте памяти о Холокосте, сохраняющем в американской жизни «священный статус», см.: Dean C. J. The Fragility of Empathy after the Holocaust. Ithaca: Cornell University Press, 2005. P. 12.
.
Как мы видели, этот опыт был важен для французских мыслителей, стоявших на позициях радикальной критики гуманизма. К началу 1990‐х годов, тем не менее, их философская критика гуманизма и сомнения в человеческой исключительности приобрели в процессе коммерциализации новое значение. Перестав быть философским выражением трагического опыта, антигуманизм подготовил почву для превращения насильственной смерти в популярную тему массовой индустрии развлечений. Отрицание человеческой исключительности привело к нормализации и идеализации монстров, а также превратило идею несостоятельности человечества и человека в клише современной популярной культуры.
Основываясь на этих предпосылках, можно документально проследить развитие танатопатии как уникального движения популярной культуры и определить важнейшие ступени его становления за минувшие десятилетия. Этот исторический обзор высветит сложные отношения и пересечения между фактами и явлениями в разных сферах общественной и культурной жизни, которые составляют культ смерти. Что самое важное, этот обзор продемонстрирует, что изменение отношения к людям-протагонистам в художественной литературе и кинематографе действительно было связано с изменениями в социальных и культурных практиках, имеющих отношение к смерти.
Формирование культа виртуальной насильственной смерти началось в 1970‐е годы, когда несколько важных трендов подготовили почву для его будущего триумфа. Семидесятые годы были отмечены возникновением подростковой литературы как нового жанра, сделавшего невиданный акцент на немотивированном насилии, и новой волной фильмов ужасов, продолжавшимся в последующие десятилетия. Кроме того, в конце 1970‐х и начале 1980‐х наблюдались первые всплески интереса к серийным убийцам. Пик популярности Толкина, проявившийся в переводе «Властелина колец» в 1970‐е годы на большинство европейских языков, возвестил о зарождении массового интереса к человекообразным монстрам как модным протагонистам произведений художественной литературы и кино. Готические рок, тяжелый металл и рэп, возникшие в 1970‐е годы, часто фокусировались на насилии и темах, связанных со смертью. Возникновение молодежной готической субкультуры совпало с появлением ролевых игр, обучавших пользователей отождествлять себя с человекообразными монстрами. В это время были созданы первые журналы, посвященные танатологии и исследованиям смерти, что свидетельствовало о растущем общественном и научном интересе к смерти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: