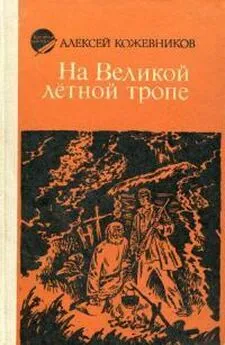Алексей Кожевников - На Великой лётной тропе
- Название:На Великой лётной тропе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Башкирское книжное издательство
- Год:1987
- Город:Уфа
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Кожевников - На Великой лётной тропе краткое содержание
В романе «На Великой лётной тропе» рассказывается о людях заводского Урала в период между двумя революциями — 1905 и 1917 годов, автор показывает неукротимый бунтарский дух и свободолюбие уральских рабочих.
На Великой лётной тропе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вот спорим, оставлять завод али драться. Я согласен оставить, а молодежь хочет драться, — такими словами встретил Юшку Прохор.
— Драться лучше, если сила есть. Много ли у нас бойцов, ружей, пулеметов?
— Всего бойцов с тыщу, да какие это бойцы, иные ружье впервые взяли. Сотни две надежных.
— Да моя сотня дорогого стоит. Где враг?
— Враг у нас все забрал, вчера Шумской завод занял, оставил нам одну дорогу.
— Смертельную щель?
— Ее самую. В Шумском, слышно, повесили многих и в шахты побросали. Нам, ежели сдадимся, не миновать такой же участи.
— Враг силен?
— Трудно сказать, у него не были. Из Шумского прибежали к нам беглецы, говорят: много тысяч, и все царские офицеры.
— Враг сурьезный. Часа через два я скажу, стоит ли драться.
Юшка сел на своего усталого коня и поехал в другие вооруженные отряды. Там были не только рабочие от станков, но и древние старики, и почти дети. Они тревожно спрашивали:
— Что делать будем?
— Драться.
— Враг-то все кругом забрал.
— А у нас шею сломит! — Юшка бодро встряхивал волосами, и всем от этого становилось бодрей. — Не трусь, голытьба, у нас правда!
— А пушки-то у них!
— Где правда, там будут и пушки!
Объехал Юшка позиции, которые окружали весь завод, осмотрел рвы, каменные гряды, проволочные заграждения.
Он решил, что драться стоит, и ровно через два часа поехал в Совет, чтобы сказать:
— Деремся!
Не доехал Юшка до Совета, а враг уж начал обстрел. С трех сторон полетели снаряды. Дым и песок повисли над заводом грозовой тучей.
А рабочие, защитники завода, лежали без выстрела. Стрелять им было бесполезно, враг среди утесов спрятал батареи и людей. Стреляй в горы, их никогда и ничем не расстреляешь.
Стрельба умолкла так же неожиданно, как и началась. Ветер развеял дым, и рабочие увидели, что из всех расщелин, из-за каждого камня, припадая к земле, бежит враг — ружья наперевес, штыки поблескивают. Враг быстро подходил ближе, подобно воде, когда она в ливень хлынет с гор.
Во многих местах кричали «ура» и бежали навстречу врагу также с готовыми штыками.
Юшка метался на своем вороном от участка к участку и кричал:
— Вперед! Вперед!
А враг все прибывал, колоннами и цепями выползал из-за гор, и не было ему конца.
Во многих местах он прорвал заграждения, и драка продолжалась за чертой их.
Юшку поймал Прохор:
— Задавит он нас! Завод выезжает.
— Пусть выезжает.
Поток груженых телег, пеших женщин, детей, скота в пыли и криках выползал из завода и терялся в Смертельной щели.
Прохор обходил улицы и предупреждал, чтобы все, кто хочет, выезжали.
К ночи враг опрокинул все заграждения и ворвался в поселок.
Защитники завода отступили. Дольше всех держался отряд Юшки Соловья.
— Держись! Умрем за волю! — призывал Юшка.
— Умрем, Юшка! — отвечали ему.
Ночью он увел своих уцелевших сподвижников к Смертельной щели, куда только что ушел последний заводской воз, и сказал:
— Я остаюсь здесь! Кто со мной?!
— Я, Юшка! — крикнул Бурнус.
— Все, Юшка!..
Они заняли Смертельную щель.
Юшка подозвал Ирину и сказал:
— А ты уходи!
— Куда?
— К нашей дочурке.
— Я не нужна ей. Буду здесь с тобой… с народом.
И снова заняла свое боевое место. Заняла без слов, с одной думой: «Я готова на все. Прости меня, мой народ, прими в свое будущее!»
Закончено в 1977 г.
Урал — Москва — Абрамцево
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОРОГИЕ МОИ ЧИТАТЕЛИ!
Многие из вас спрашивают, как пишутся у меня книги. Чтобы ответить на это, я не раз пробовал наряду с писаньем книг записывать, как оно происходит. Но вскоре убеждался, что рассказ о книге, о том, как создавалась она от первой задумки до последней точки, будет гораздо длинней самой книги. У меня не хватало на это ни упорства, ни времени. В этой коротенькой статье расскажу только кое-что.
Я — не поэт, а прозаик, стихами никогда не занимался всерьез. Но моя писательская биография началась стихотворением. Мне было тогда лет шесть-семь. Деревенский парнишка, сын неграмотных родителей и сам неграмотный, я не имел никакого представления о печатном слове, знал только разговорное да песенное.
В ту пору в нашей деревне главенствовали рассказы мужиков, ходивших в Сибирь, искать место для переселения. Ходили они долго, с год, а вернувшись, еще дольше спорили: переселяться или не стоит. Одни расхваливали Сибирь: обширные непаханые земли, нерубленые леса, великие рыбные воды. Другие, наоборот, хаяли: долгие зимы, непролазные снега, жгучие, нестерпимые морозы.
В этих спорах постоянно порхало и особенно нравилось мне летучее, звонкое слово «Енисей». Оно просилось в песню. Через него река Енисей представлялась мне летящей стрелой, пущенной из лука великаном.
И вот однажды, в какой-то праздник, я, нарядно обряженный во все новое — рубаха, штанишки, лапти, онучи, — выскочил на улицу. Было грязно, стояли лужи, а я топал напрямик, победно размахивал руками и громко, счастливо скандировал:
Енисей, Енисей…
Та-та-та, та-та-та…
Алексей, Алексей —
Лапота́, лапота́…
Я — вятский, их, бедных лапотников, часто называли пренебрежительно лапото́й.
Это было мое первое сочинение; я не старался над ним, оно выскочило само собой от какого-то восторга. Я скандировал, разбрызгивая ногами грязные лужи, а вокруг праздные, подвыпившие люди смеялись, подзуживали: «Ну-ка пройдись еще! Ловко получается!» Один дядька из ходоков сказал: «Ишь с кем обвенчался, с Енисеем. Далеко замахнулся парень!»
Домой я пришел весь в грязи. Мать задала мне здоровенную трепку — мой первый литературный гонорар. Долго саднела у меня спина, исхлестанная моими же мокрыми портянками, сильно горели надорванные уши, но интерес к Сибири, к Енисею не угас.
Научившись кое-как держать ручку, я начал записывать рассказы ходоков, а потом и все другое, показавшееся мне ярким, интересным: песни, сказки, байки, споры, словечки. Семья наша была большая, порой до десяти человек, а изба маленькая, в одну комнату, и у ребятишек не водилось ни особого уголка для занятий, ни полочки для книг и тетрадок. Свои записи я складывал в пестерь — плетеное из лык дедово лукошко, — висевший после смерти деда без всякого употребления под потолком избы.
А научившись одолевать толстые книжки, особенно увлекся географией и этнографией, перечитал все, что нашлось в школе и по домам у товарищей. Потом мне захотелось упорядочить вычитанные познания, и я написал «Всеобщую географию мира». Уложил ее в тот же пестерь. Там набралась большая кипа.
После сельской пятиклассной школы поступил в Казанскую учительскую семинарию. В первые же каникулы привез оттуда новые записи. Прежде чем спустить их в пестерь, решил поглядеть на прежние, сунул руку, и… вместо бумаг в пестере оказались мелкое бумажное крошево и сухой мышиный помет. Мыши так распорядились моими записями, что не оставили целым ни единого листочка — погибла и вся «Всеобщая география мира», и множество зародышей еще неясных мне тогда рассказов, повестей, возможно, романов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: