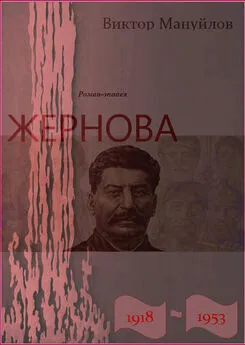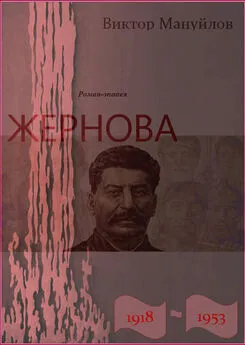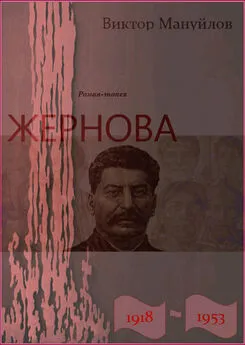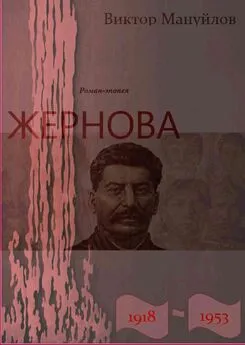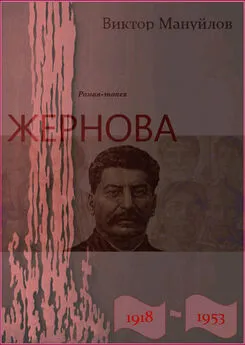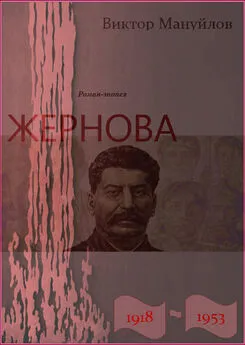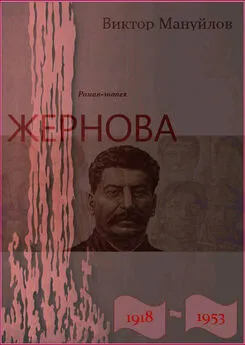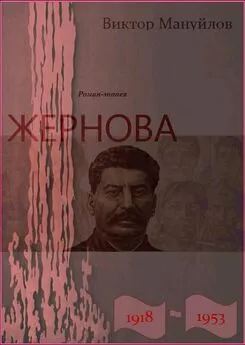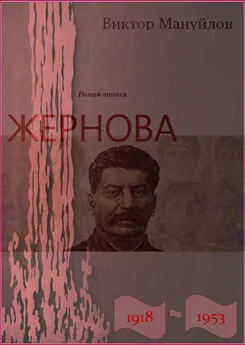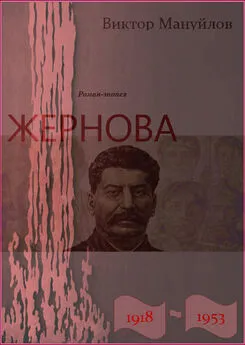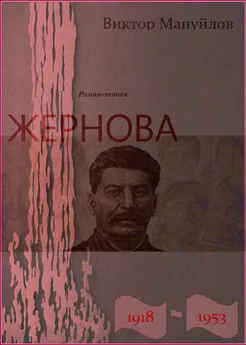Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953
- Название:Жернова. 1918–1953
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953 краткое содержание
Жернова. 1918–1953 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Взорвать устоявшийся вековой порядок этих мест — вот чего бы хотел Ермилов. В любом деле, считал он, надо использовать радикальные средства, только они дают немедленный и ощутимый результат. Революция — тому подтверждение.
Конечно, граница — совсем не то, чем он занимался прежде. И знаний не хватает, и опыта. Да и людей. Но главное — этот мир, казавшийся ему когда-то олицетворением покоя, где так хорошо предаваться размышлениям, покоя не дал, а размышлений — сколько угодно, хотя здесь почти ничего не изменилось с тех давних пор: по пыльным и грязным улочкам движутся все те же темные людишки, слышится все та же речь, те же визгливые крики женщин, что-то не поделивших между собой, срывающих с наголо остриженных голов друг у друга парики и в гневе топчущие их в пыли; все так же собираются кучками все те же старики в черных камилавках, со свисающими пейсами, обросшие нестриженными волосами и бородами, и косятся подозрительно и высокомерно на незнакомого человека… Что у них на уме, о чем они договариваются, что думают о советской власти?.. О, как ненавидит он этот затхлый мир, этот «святой» народец, живущий представлениями более чем двухтысячелетней давности и воспитывающий своих детей в презрении и ненависти к остальному миру!
Правда, народца этого становится все меньше, особенно молодежи, он как-то незаметно расползается по большим городам, целые улицы стоят с забитыми крест на крест окнами и дверьми, и лишь брошенные хозяевами собаки собираются стаями, оглашая пустынные улицы громким лаем и грызней. Но, как и прежде, оставшиеся в местечках евреи держат все в своих руках, собирая дань с окрестных белорусских селений, а польская дефензива удивительно подробно осведомлена обо всем, что происходит на сопредельной стороне.
Наконец, здесь даже природа выступает союзником твоего врага, она как бы специально создана для того, чтобы таить в себе чужие тайны, пороки и преступления.
Вот он — лес, непроницаемая стена из стволов, ветвей и листьев. Может, сейчас недалеко отсюда сидит у костерка банда контрабандистов, собравшихся на ту сторону. Может, за тем вот кустом притаилась смерть и вглядывается в приближающегося Ермилова через прицел винтовки. Что ж, пусть смотрит. Ему не привыкать. Сколько он себя помнит, вся жизнь его — игра со смертью. Дай ему другую жизнь — умер бы от тоски. А стреляли в него не раз. Но то ли стрелки попадались хреновые, то ли есть у него ангел-хранитель.
Густые кусты орешника приближались, и Ермилов поправил стоящий в ногах карабин, расстегнул кобуру.
Он всегда ездил один, без охраны и сопровождающих, никогда и никого не ставя в известность о своих поездках заранее. Даже людей будто бы проверенных и преданных революции и пролетарскому делу. Мало ли что случится: сболтнет где лишнее, вынудят сказать… Поэтому организовать засаду на начальника районного отдела ОГПУ практически не представляется возможным. А один Ермилов поедет на заставу или в какое-то село, или вдвоем-втроем, не имеет значения. Да у него в отделе всего-то девять человек, почти все в разгоне, почти каждый день где-нибудь что-то происходит, требуя вмешательства гэпэу.
Вот, например, четыре дня назад убили председателя местечкового совета Гутмана. У Ермилова из девяти подчиненных семеро — евреи, один поляк, один литовец.
Они-то сейчас и занимаются этим делом. А сам он туда не лезет: бесполезно, убедился на собственном опыте. Он даже не уверен, что ему докладывают все подробности расследования. Впрочем, подробности не имеют значения. За что бы ни убили Гутмана, — даже если муж-рогоносец застал его со своей женой, — Гутман был председателем совета — и этот факт должен решать все. Но решает ли он на самом деле, Ермилову знать не дано.
Двуколка миновала кусты орешника, густо облепленные молодой завязью, более светлой, чем листва, и Ермилов подумал — так, между прочим, — что орехов в этом году будет пропасть. Он выпрямился, расслабился. Хотя и привык давно к таким поездкам, но как бы и ни привык, а напряжение всегда держится, ушки всегда на макушке, глаза рыскают из стороны в сторону, примечая каждое движение.
Вот качнулась ветка придорожного куста: птица ли слетела с нее, ветром ли ее колыхнуло, или она качнулась как бы сама по себе, необъяснимым образом, — и рука Ермилова непроизвольно замирает на ребристой рукоятке нагана.
Все-таки лес — чужая и чуждая для него среда. В городе легче. Даже среди массы вроде бы одинаковых людей — одинаковых своим безразличием к нему — Ермилов всегда находил нужного ему человека, определял его намерения. Крыши и окна домов, подъезды, подворотни, заборы, сараи, лавки, кабаки и рестораны, железнодорожные станции и вокзалы, порты с их причалами и пакгаузами — все это была его родная стихия, где он чувствовал себя свободно и раскованно. А лес, овраги, холмы, ручьи, бурелом — они ему ничего не говорили, он так и не научился читать их внутреннюю сущность. Здесь были бесполезны его способности к перевоплощению, знание языков и человеческой психологии.
Здесь вообще не нужен был Ермилов, здесь нужен был другой человек, а для Ермилова это просто ссылка. Но он почему-то был уверен, что рано или поздно понадобится снова и его позовут.
Дорога выбежала к самой Случи, и Ермилов пустил кобылу шагом к воде. Здесь он всегда поил лошадь, иногда купался, смывая с себя дорожную пыль, перед тем как въехать в опостылевший ему городишко. Место открытое, незаметно не подобраться.
Лошадь вошла в воду, жадно принялась пить. Ермилов сидел нахохлившись, мысли его унылой чередой двигались по раз и навсегда заведенному кругу, из которого не вырваться.
Ермилов не умел и не любил философствовать на отвлеченные темы, считал это занятие пустой тратой времени, и в городе ему на ум никогда не приходили мысли о жизни и смерти, о том, что такое человек между своим появлением на свет и уходом в неизвестность. Он избегал, сколько мог, философии на Капри, полагая, что она уводит от конкретных дел, затемняет саму жизнь, хотя и с уважением относился к людям, преподававшим ему основы знания мира: к Луначарскому, Ленину и другим лидерам российской социал-демократии. Здесь, на природе, однообразно утомительные путешествия на двуколке, равномерный топот копыт, шуршание обрезиненных колес, мелькание деревьев, кустов, полян — все это наводило на мысли, сумбурные и не идущие к делу, и мысли эти он почему-то от себя не гнал, они текли как бы сами по себе, вне его сознания и воли.
Чаще всего это были мысли о себе самом, о том, почему его собственная жизнь сложилась именно так, а не иначе. Ермилову хотелось найти какое-то логическое объяснение своей жизни, должна же здесь быть какая-то закономерность, ибо случайности в его жизни играли роль второстепенную, если вообще что-то значили. А понять свою жизнь — это, как полагал Ермилов, означало прежде всего понимание тех процессов, участником которых он был и продолжал оставаться, но которые почему-то уже не зависели от него, продолжая между тем оказывать влияние на его судьбу. Тут поневоле ударишься в философию, и он таки в нее ударился, раздобывая, где только возможно, сочинения Маркса, Энгельса, Ленина. Он полагал, что если все идет так, как они предвидели и предсказывали, то, следовательно, он ничего не понимает в происходящем, не видит указанного предопределения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: