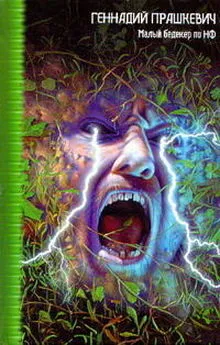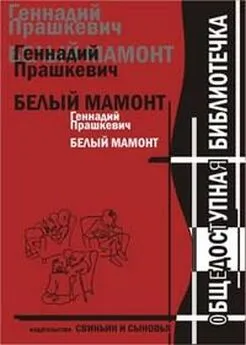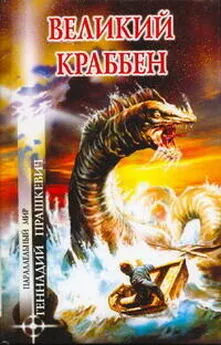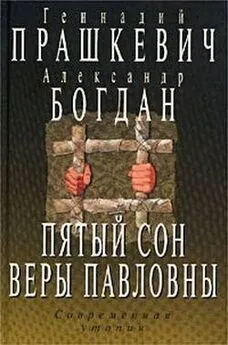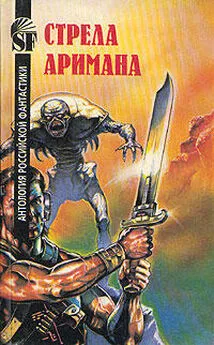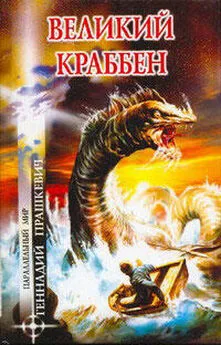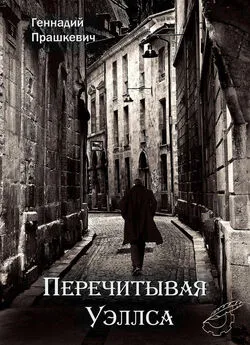Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]
- Название:Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей] краткое содержание
или
? Не торопись. Если в горящих лесах Перми не умер, если на выметенном ветрами стеклянном льду Байкала не замерз, если выжил в бесконечном пыльном Китае, принимай все как должно. Придет время, твою мать, и вселенский коммунизм, как зеленые ветви, тепло обовьет сердца всех людей, всю нашу Северную страну, всю нашу планету. Огромное теплое чудесное дерево, живое — на зависть».
Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Первым выступал Хахлов.
Хра бра фра. Много сердитого сказал.
Даже нанаец Исула Хор возмутился: «Зачем убивают?»
Серега Пшонкин-Родин на это деловито ответил: «Моя сказка старинная».
Кажется, он правда был убежден в том, что написал совсем старинную сказку.
«Энимби барони унду, — погрозил сильным пальцем нанаец. — Ты своей матери такое скажи». И тут же пояснил, чтобы впредь никому неповадно было: «Нельзя так, как в твоей сказке. Кормиться — это не убивать. Это тебе знать надо. Для охоты и убивания разные слова есть». Распалившись, тыкал сильным охотничьим пальцем в сторону Пшонкина-Родина: «Нёани енгурбэ моримба сиавандини. Ты волка лошадью кормишь!» Считал, наверное, что такая пословица все объясняет. «Зачем людям убивать? — никак не мог остановиться. — Людям просто надо охотиться. Людям просто надо кормить друг друга. Вот и всё. Пойнгалбалба, — торжествующе объяснил. — Окутываясь дымом. Ты сколько съешь, столько и убей, больше не надо. Сэмул-мэмул, — нанаец даже пошамкал очень картинно, очень по-стариковски, очень как бы пустым ртом. И закончил: — Слов у тебя сильно много».
И Хахлов сердито подтвердил: хра бра фра.
Всё же рекомендовали сказку в краевой журнал.
Расстроенный Исула Хор тут же отправился (на пять минут) делать пойнгалбалба (окутываясь дымом), а мы перешли к стихам Волковой.
На этот раз первым выступил Серега Пшонкин-Родин.
Ободренный успехом (было видно, как высоко взлетел), к стихам Люды отнесся строго. «Много нужно работать. Архаичные твои стихи». И пояснил пораженной Волковой: «Ты же не в лесу живешь. Ты в городе живешь. Потому такое и придумываешь». Даже погрозил Люде пальцем, совсем как настоящий старинный сказочник. «Ты, — даже так укорил, — живые цветы видишь больше на своем подоконнике — в горшке».
Словосочетание «в горшке» неприятно задело Волкову.
Но Пшонкин-Родин продолжал токовать, ничего не видел.
Ну и писала бы про цветы в своих горшках, токовал он. Зачем нам про это знать? Цветочки, бабочки, червячки? Всем этим сыт не будешь. У меня, признал не без важности, крупных лосей убивают. У меня очень крупных убивают. С уважением говорят: о, Чомон-гул! О! Никак не иначе, никак. У меня старинные люди старинными крупными лосями кормятся, а ты бабочек-червячков, что ли, кушаешь? Сама подумай. Наестся охотник твоими бабочками-червячками?
И совсем уже откровенно указал на раскрывающуюся перед Волковой нравственную пропасть: «Архаичные, Люда, твои стихи! Такие прямо хоть через ять печатай».
Волкова щелкнула металлическими зубами.
Бледная, взглянула на Серегу, взгляд отяжелел, как ведро ртути.
Да, сказала негромко, все придавливая и придавливая Серегу тяжким этим своим ртутным взглядом. Да, спору нет, у нее всё так — зеленые полянки, масса цветов, все живое, все дышит, потому и червячки есть. Как без них? У нее, напомнила, много неба, ягодных кустов, никто на ее полянках не проливает невинной крови, не колет копьем крупных, но беззащитных лосей. Хватит убивать! Сколько можно? Ты, Серега, вон Нину до слез довел! И вообще, сам-то знаешь, в каких случаях использовали букву ять?
Пшонкин-Родин сразу запаниковал. А Волкова хищно облизнулась, даже похорошела. И все, конечно, уставились на растерявшегося Серегу, ждали ответа, но за Серегу ответил почему-то Дед. Стихами ответил, выделяя голосом отдельные слова.
Спросили они : «Как в летучих челнах
Нам белою чайкой скользить на волнах,
Чтоб нас сторожа не догнали?»
Умело выдержал паузу.
«Гребите!» — он ѣ отвечали.
Пшонкин-Родин, слушая Деда, бледнел и краснел. Понял, что зарвался. Понял, что в своем торжестве зашел далеко. На глазах известных писателей, на глазах гостя из Москвы, на глазах всех семинаристов он, Серега, только что одобренный всем коллективом, терял лицо.
Но Дед позора не допустил.
Спросили они : «Как забыть навсегда,
Что в мире юдольном есть бедность, беда,
Что есть в нем гроза и печали?»
Снова выдержал паузу.
«Засните!» — он ѣ отвечали.
Только тут до сказочника начало доходить.
Спросили они : «Как красавиц привлечь
Без чары: чтоб сами на страстную речь
Они нам в объятия пали?»
«Любите!» — он ѣ отвечали.
Хра бра фра — восхитился Хахлов.
А Волкова торжествующе заключила: «Мей! Классик».
Теперь получалось так, что все лучшее на семинаре держится на ней.
Но Дед и этого не допустил. Не мог допустить. Он снова вмешался. «Если в корень смотреть, то все же это стихи не нашего русского поэта Льва Мея, барышня, а стихи француза Виктора Гюго».
И чтобы не сомневались, напомнил:
Comment, disaient-ils,
Avec nos nacelles,
Fuir les alguazils?
Ramez, disaient-elles…
Посмотрел на барышню Волкову. «Продолжите?»
Барышня Волкова густо покраснела, видимо, не знала французского в совершенстве. Тогда Дед продолжил:
Comment, disaient-ils,
Oublier querelles…
И все такое прочее.
И я понял вдруг, почему Деда так прозвали.
Дело тут не в возрасте. Возраст тут вообще ни при чем.
Просто Дед был — из другой жизни. Совсем из другой. Не из нашей и не из старинной, а просто из другой. Возвышался над нами, как гора, избыточный, огромный, как темный лесной чомон-гул, никем пока не убитый. Сэмул-мэмул, твою мать. Видел что-то для нас невидимое.
«Да, верно. Перевод русского поэта Льва Мея, — вмешался в разговор московский гость. — Конечно, перевод. Но заметьте, звучит значительнее оригинала. Не находите?»
Чехов строго взглянул на Пшонкина-Родина, и тот (как один признанный писатель другому признанному писателю) сразу начал согласно кивать, да, да, это так, он находит! А московский гость продолжил.
«Русская поэзия — сильная поэзия. Для нее нет преград. Она переосмысливает, она перемалывает все. Французская, бог с ней, она какая была, такой и останется — в корне буржуазная. А русская — это жернова, это тяжелые жернова. Да, да, именно так, тяжелые. А то суют руки, куда не надо… — почему-то посмотрел Чехов на покрасневшего Леню Виноградского. — Русская поэзия — это наши мощные революционные жернова. Даже старые поэты подтверждают это. Тот же Лев Мей. Понятно, он для нас поэт уже третьего, даже, может, четвертого ряда, но ведь как звучит! — Чехов убежденно похлопал ладонью по столу. — Не то что Виктор Гюго… А?.. Comment, disaient-ils, oublier querelles… Вот вы часто перечитываете Виктора Гюго? — вдруг спросил Чехов Хахлова. — Да, именно вы! Вот видите… Так я и думал…»
Спрашивать, часто ли Хахлов, монстр прокуренный, перечитывает русского поэта Льва Мея, Чехов не стал.
Сказал: «Я не сравниваю. У французского поэта свой голос, свои заслуги. Но вы почаще прислушивайтесь к собственному языку! — на этот раз Андрей Платонович почему-то посмотрел на насторожившегося нанайца. — Внимательнее изучайте свой родной язык! Всем понятно, что все эти яти и херы давно отработаны, но ведь они все равно наши!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]](/books/1070981/gennadij-prashkevich-gumannaya-pedagogika-iz-zhizni-p.webp)