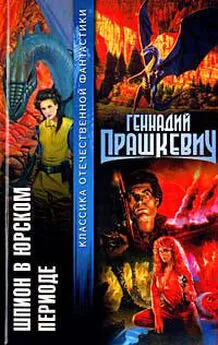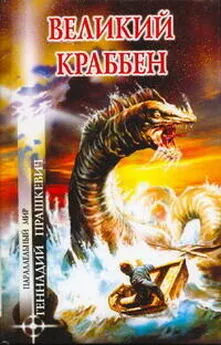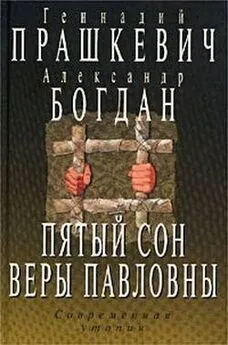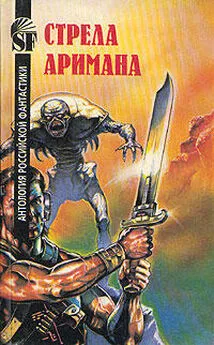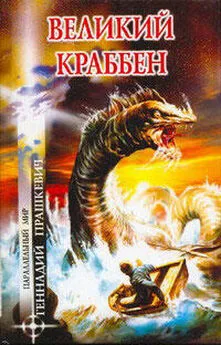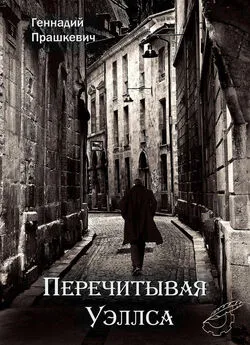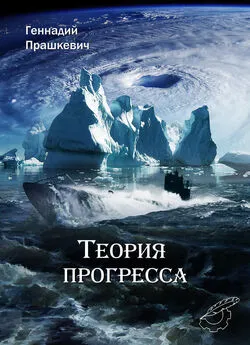Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]
- Название:Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей] краткое содержание
или
? Не торопись. Если в горящих лесах Перми не умер, если на выметенном ветрами стеклянном льду Байкала не замерз, если выжил в бесконечном пыльном Китае, принимай все как должно. Придет время, твою мать, и вселенский коммунизм, как зеленые ветви, тепло обовьет сердца всех людей, всю нашу Северную страну, всю нашу планету. Огромное теплое чудесное дерево, живое — на зависть».
Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На Деда столичный писатель ни разу не посмотрел, хотя чувствовалось, что упомянутые им яти и херы приплетены не просто так. Чувствовалось, что Дед тоже (как и московский гость) догадывается о глубинных корнях родного языка, избыточный, думает, петрушит что-то свое, слышит, наверное, как упомянутые глубинные корни раздвигают слои земные.
Короче, я окончательно понял, что Дед — другой .
Такой поймет мою «Педагогику».
«У вас, Людмила, — продолжил Андрей Платонович Чехов. (Дед бы, конечно, сказал: барышня. ) — У вас, Людмила, как бы даже не стихи, а, скажем так, опись всего хорошего на свете. Не обижайтесь. Добротная, кстати, опись. И хорошее у вас случается, и плохое может сбыться. Облака, ручейки, травы. — («Амбарная книга», — шепнул мне Суржиков.) — Плотная, позитивная, но опись. Потому и приходят вопросы. Важные вопросы. Не просто так. Где, к примеру, связь с прошлым? Где взгляд в будущее? — Андрей Платонович пытливо, как настоящий учитель, всматривался в нас. — Вы должны помнить. Стихами поэт разговаривает с потомками. Предки — это да, это само собой, дело прошлое, мы своих предков уважаем, неважно, каких они там понаделали ошибок… — Столичный гость ни разу не посмотрел на Деда, возвышавшегося над нами, как одинокая вершина над равнинным болотом. — Поэт всегда обращается к потомкам. Исключительно к потомкам. — Почему-то теперь Андрей Платонович посмотрел на Суржикова. Благожелательно посмотрел. — Потомки наши в своем неведомом будущем… Нет, не в неведомом, а в чудесном… — поправил себя Чехов. — Потомки наши… в своем неведомом и чудесном будущем… в веках… средь дымчатого стекла… Убивать, конечно, не будут…»
И шумно высморкался в клетчатый носовой платок.
Короче, сорвал аплодисменты, вызвал большой интерес к себе.
А после короткого перерыва (пойнгалбалба, окутываясь дымом) пришел черед Леши Невьянова. Все знали, что он напрямую подражает Деду, то есть пишет не романы, а большие исторические повествования, но, честно говоря, не таким уж Леша оказался неудачником, как сам утверждал. Может, и «Анну Каренину» он перечитывал на четыре или на пять раз только затем, чтобы лучше понимать женщин. Подумаешь, провел какое-то время в нервном отделении. Друзья ведь отмазали Лешу от групповых занятий (а они планировались) по раскраске кубиков и составлению пирамидок.
Вот и написал Леша о Федоре Подшивалове.
Но начал, конечно, с того, что перед самой поездкой в Хабаровск потерял деньги. Сколько было (сумму не назвал), столько и потерял. Но это ничего. Он хорошо зарабатывает. Он хороший слесарь. Можете позвонить в депо, вам подтвердят. Он, правда, «Анну Каренину» несколько раз перечитал. В принципе, это настоящий роман, хотя кое-что он бы в романе исправил. Сам-то я, признался Леша, начинал со стихов, писал много и интересно, историей поэзии увлекался, никаких белых пятен нет для него в поэзии, потому теперь и тянет к историческим повествованиям.
На этом его и поймала Волкова.
«Лет двадцать пять назад спала родная сцена, и сон ее был тяжек и глубок, но вы сказали ей, что «Бедность не порок», и с ней произошла благая перемена. Бесценных перлов ряд театру подаря, за ним «Доходное» вы укрепили «место», и наша сцена, вам благодаря, теперь не «Бедная невеста». Заслуги ваши громко вознеслись, а кто не ценит их иль понимает ложно, тому сказать с успехом можно: «Не в свои сани не садись».
«Ну, — спросила, — кто написал такое?»
Леша не смутился. «Зачем мне всё помнить?»
И воззрился на Деда. Верил в Деда. И мы воззрились на Деда.
Дед с удовольствием удобно уложил руки на своей тяжелой палке.
«Хвалю, барышня. Цитируете редкую публикацию. «Северный вестник», если не ошибаюсь. — Прикинул что-то про себя. — Нет, не ошибаюсь. Одна тысяча восемьсот девяносто четвертый год. Санкт-Петербург. Апухтин. В память о драматурге Островском».
«А Федор Подшивалов? О ком это ты написал?»
«Неужели по имени непонятно? — удивился Невьянов на такой вопрос Коли Ниточкина. — Федор Подшивалов — это большая величина. Это наш исконно крепостной мыслитель!»
«Хра фра бра. Где такой родился?»
«В Смоленской губернии».
«А точнее?»
Да в Сычевском, в Сычевском уезде родился наш исконный крепостной мыслитель, неожиданно рассердился Леша. Там, в Сычевском уезде и родился, там выучили его на повара-кондитера. Оттуда при барине князе Лобанове-Ростовском Федор не раз выезжал во Францию, в Швейцарию, вот как бывает с русскими людьми, бывал на русско-турецком фронте. Совсем крепостной человек, а скоро заговорил по-французски и по-немецки. Чтил законы и обычаи всех стран, но своей — особенно. И свой главный философский труд под названием «Новый свет и законы его» крепостной философ Федор Подшивалов (сразу видно, что не дурак) отослал (сам отослал) в Третье отделение канцелярии императора Николая I — на имя графа Александра Христофоровича Бенкендорфа. «Прошу покорнейше оценить мой труд». Очень надеялся, что ответят быстро, и граф, надо ему отдать должное, с ответом не стал тянуть, отправили философа в Соловецкий монастырь, лучшего места для вдумчивых рассуждений и не найдешь. А то придумали! Всеобщая свобода. Всеобщее равенство. Всеобщее братство. Так, знаете ли, можно договориться и до Октябрьской революции.
А потом, одумавшись, во всем разобравшись, отправили крепостного мыслителя еще дальше — в Сибирь.
Там он и пропал где-то. Может, до советской власти дожил, человеком стал.
«Хра фра бра. Как так, дожил? От Николая-то Первого до Второго?»
Пришлось опять вступить в разговор Чехову. «Литературе нужна правда, — доверительно покачал он головой. — Только правда. Ничего другого. А вы, Невьянов, на мой взгляд, пока еще неуверенно работаете с архивными материалами».
«Так я же говорю, перед самым приездом потерял деньги!»
Так и закончился наш первый рабочий день.
Зато в баре гостиницы, куда переместились некоторые семинаристы, я наконец услышал про Деда кое-что стоящее. И не от европейской штучки Суржикова, а от бритого Хунхуза, который почему-то разделил с нами компанию.
Оказывается, летом в Хабаровске побывали два шотландских поэта.
Только не Роберт Бернс (вы не угадали) и не Вальтер Скотт (тоже не угадали), а нормальные современные поэты. Один по имени Биш Дункан — мордастый, рыжий, будто только что вылез из приключенческих романов Жюля Верна, а второй по имени Бойд — тоже крепкий, тоже будто вылез откуда-то. Оба прогрессивные. Оба — работники профсоюзной сферы, крепкие борцы за права человека. Известно, что правами человека занимался и американский поэт Роберт Фрост («Сосед хорош, когда забор хороший»), но его в Хабаровск не приглашали.
«Интересно, у американских поэтов есть профсоюз?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]](/books/1070981/gennadij-prashkevich-gumannaya-pedagogika-iz-zhizni-p.webp)