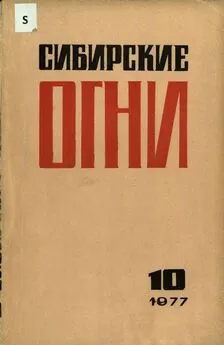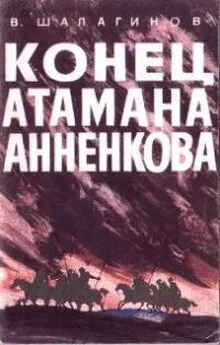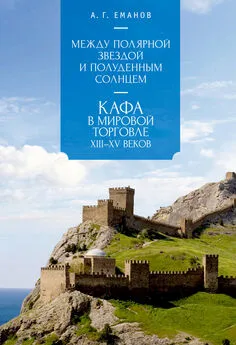Вениамин Шалагинов - Кафа
- Название:Кафа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство
- Год:1977
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Шалагинов - Кафа краткое содержание
Кафа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Скор-ра! — вознесся над зрителями истошный тенорок офицера.
Стек постегал по голенищу и взреял, как дирижерская палочка. Камчатка отозвалась на все это глухим долгим гулом, казаки повскакивали со своих мест, офицеры Помазкина потянулись по проходу к наружной двери.
От Деда Григорий возвращался верхом на лошади. Сумерки уже крыли Городища своей черной полой, когда, проскакав последний березовый колок за Порт-Артуром, он спешился и с лошадью в поводу стал спускаться к карьеру по крутой тропке. Старый взмыленный рысак, давно уже не ходивший под седлом, вздрагивал от усталости, скалил зубы, вырывал поводья. И тогда из-под его копыт с шумом срывались вниз рыхлый пыльный плитняк и комья глины. Григорий останавливал коня, прислушивался. Надо было пройти к конюшням карьера незаметно: лошадь он взял без спросу. Но как это сделать, если скат холма и обширная, пустая, пестрая от шевяков поскотина были хорошо видны из служебных строений. Да вот и лошадь еще, как на грех, гремела копытами и упиралась.
У заброшенной мельницы с обвалившейся крышей, на фоне сравнительно светлого неба он заметил две неподвижные фигуры. Понял, что эти двое глядят в его сторону и ждут его. Убавил шагу, примериваясь вскочить в седло.
— Гринь! — негромко позвал его чей-то голос от мельницы. — Не бойся. Свои.
Подошли Грачев и Данилка.
— С новостями к тебе, — сказал Грачев, здороваясь с Григорием за руку. — Колчак поменял Кафе расстрел на вечную каторгу.
— Чех объяснял в пакгаузе, — добавил Данилка, пожимая в свою очередь руку Григория.
— Почему чех?
— Кто его поймет, — Грачев безнадежно махнул рукой. — Ну, а у тебя-то как? Все ладно?
Григорий кивнул. За час до нападения на тюрьму, сказал он, Каландаришвили ударит по району пороховых погребов, что на соседней с Городищами станции. Аламбеков, Помазкин, а может, и чехи кинутся туда на выручку, гарнизон опустеет и станет беспомощным.
Он говорил о вещах, в которые верил, они воспламеняли его воображение. Но сейчас он мрачнел с каждым словом: весть об адмиральской «милости» таила в себе что-то смутное и зловещее.
— А как тот? — прерывая рассказ, спросил он Грачева. — Из канцелярии Глотова? Подтвердил он замену?
— Слово в слово. Бумаги, говорит, пришли и был какой-то разговор Колчака с прокурором. Дескать, потрясите как следует Отца Симеона: должо́н знать, о чем баили. Может, о Кафе. Симеона-то помнишь? Вот, вот, телеграфист с поповским прозвищем. Чванный такой, шляпу носит. Ну, лапу! К Чаныгину-то утром?
— Да. Так договорились.
Сон был трудный, маятный и оборвался без всякой причины, в полной тишине. Опоздал, подумал Григорий, сбрасывая с себя одеяло, опоздал! Потом, не зажигая лампы, полуодетый, он долго сидел на сундуке, пытаясь понять, куда это он мог опоздать, и, не припомнив, поднялся и стал запоясываться. Живей, живей, снова торопил он себя. Да, Отец Симеон, хлыщ в бархатной шляпе! «Может знать, о чем баили». Но вот, где он живет? У скита? Стоп! Первый казенный дом от семафора. Дощечка еще эмалевая и звонок. «Может знать...» Ходу, Гриша, ходу!
Калиточка стукнула, пропустила и снова стукнула.
Чаныгин ночевал у Пахомова.
С вечера на три ряда читали доставленное связным из Омска постановление Политбюро и Оргбюро ЦК о сибирских партизанах. Прикидывали, через кого и каким маршрутом переотправить постановление шахтерам Черемховских копей, в Приангарье, Читу, Кяхту. Намечали связных.
Чаныгин уже спал, когда снаружи кто-то невнятно поцарапал по стеклу.
— Кто? — пробасил Пахомов, ступая в сенцы, и услышал характерное звонкое покашливание Григория за дверью.
— Открой, Пахомыч!
Вошли трое: кроме Григория, Данилка и Грачев. Поднялся Чаныгин и, легонько подпрыгивая на одной ноге, чтобы попасть в штанину, оглядывал пришедших недовольным пасмурным взглядом.
— Что припозднились, ребятишки? Крещеные спят в эту пору.
Не отвечая, подпольщики с суровыми насупленными лицами обходили обеденный стол, рассаживались по скамейкам.
— От Деда привет, — сказал Григорий Чаныгину. — Предложение наше он принял. Словом, там все в ажуре и заваруху начинает он. Когда вот только?
— Да ты что? Забыл, зачем ездил?
— Не забыл, Степа. А вот приехал и думаю по-другому. Не опоздать бы. Колчак, как знаешь, заменил Кафе расстрел каторгой.
— Знаю. — Чаныгин перешагнул через скамейку, сел, положил перед собой пудовые кулаки. — Вы-то сейчас откуда?
— Да вот: трясли миром одну грушу...
Григорий помедлил и сказал, что телеграфист, прозванный за набожность Отцом Симеоном, был при разговоре прокурора Глотова с Колчаком по прямому проводу. И так как прошел слух, что говорили они о Кафе, решено было покалякать с Отцом начистоту. Брали его в переплет, конечно, внушали. А вот ценного маловато. Разговор был, признается. Глотов в чем-то оправдывался перед Колчаком. Упоминалась Кафа. Но как именно, святоша не говорит. Трясется, как припадочный, кусает язык и ни в какую. Беляков боится. А раз боится, значит, подличает, скрывает правду.
— Контра! Мимо глаз глядит! — прижал Данилка своим молодым, уверенным баском и слегка стушевался: Чаныгин подал ему знак молчать и спросил Григория, почему тот решил вдруг, что надо торопиться с налетом. Что за причина?
— Душой чую, Степан. Чую и — баста. — Григорий перевел дыхание, глянул на Пахомова. — Тут так, наверно. Беляки объявляют нам о замене, чтобы мастеровщина — шашки в ножны и притихла бы на какое-то время. Чего лезть в пекло: Кафа помилована. А сами тем временем возьмут ее в арестантский вагон, дескать, отправляем на каторгу, и замучают. Пока чехи и беляки ходят тут строем на представления чародея, сам бог велел нам сотворить свое чудо.
— Не влезть бы в петлю. Сам знаешь, почему нельзя раньше.
— Выхода нет, Степан.
— Снова наладишь к Деду?
— Я — к Деду, Грачев и Данилка — на пороховые погреба.
Еще царствовала тихая черная ночь, когда от карьера на вершину холма и дальше Каменной падью поскакал к Таежной республике всадник в замасленной рабочей телогрейке.
— Здравствуй, Куцый! Спасибо, малыш, самочувствие прекрасное. Чем я занята? Обратно мечтаю.
— «Смирит не раз младая дева мечтами сладкие мечты».
— Не подшучивай, замарашка! Сегодня я действительно мечтаю.
— О чем же?
— О будущем. Мечтают только о будущем.
— Позвольте, позвольте... Тут есть такие, что мечтают о прошлом. О старых порядках и старом царе.
— Для них это будущее, малыш. О прошлом же вспоминают. И плачут. Одни строчат сердитые, а порой и подлые мемуары, другие плачут... Впрочем, плакать можно и о будущем. Но это уже слезы умиления и слабости.
— Наверно, оттого, что будущее всегда лучше?
— Тут есть нюансик, мой друг. Конечно, будущее людей всегда лучше — для этого мы и живем. Зато настоящее, не знаю как это выразить... Смысл такой: настоящее — это твое, твоя работа, по горло работы. И еще — первый шаг. Невозможно сразу сделать второй шаг. И в этом смысле настоящее лучше. А мечтаю я сейчас о хлебе для всех. Ты понимаешь, было бы очень здорово, если бы завтра каждая мама накормила своего ребенка. И завтра и всегда. Но дети все еще умирают от голода на глазах матерей. А матери все еще умирают дважды, сначала смертью своего ребенка, потом собственной. Ноша болезни неразделима. Я не логична? Потерпи, малыш, иначе я не смогу сказать тебе толком, что хочу. Ноша болезни неразделима. Пока стоит мир, из этого жестокого закона природа не сделала еще ни одного исключения. Болеть вместо ребенка нельзя. И даже слепая жертвенность матери видит это. Не смиряется, но видит. А вот отдалить голодную смерть сына можно, если бы даже нельзя было отдалить самого голода. Надо лишь все отдать сыну. И мать отдает. Мне очень жаль эту мать, малыш... Сейчас я увидела себя в детстве. Красное платьишко. Я одна. Шпалы, Великий сибирский путь. И я — голодная девчонка. Очень голодная девчонка. А под насыпью великое сибирское море... Вот так, Куцый, мне еще нет и четырех, а я уже связываю себя с великими мира сего... Ничего не понял? Да я к тому, что мама отдавала мне последний кусочек хлеба. Скажи, дружище, встречал ли ты когда-нибудь имя Таис? Тогда слушай. Человечеству известны две Таис. Если верить легенде, одна из них была обращенной в христианство языческой богиней. Вторая же красавица под этим именем живет и сейчас. Это моя младшая сестренка. Она проделала обратный путь: была христианкой, стала язычницей. По этой причине она превосходит древнюю Таис в том, в чем та превосходила Венеру, Леду и Елену Прекрасную. О, моя сестренка гвоздь! В те дни, когда она молилась, говела, целовала попам руки, а запах церковных книг кружил ей голову, она была убеждена, что земли и хлеба господь дал людям с преизбытком. И если бы они были добры, никто бы не умирал с голоду. Потом она разуверилась и в боге, и в этой своей истине. Дело не в том, конечно, что люди недобры, дело в другом: хлеб принадлежит сытым, а умирают голодные. Просто. Очень просто. Если бы ты решился подлететь ко мне, я бы поведала тебе на ушко одну тайну: я верю в то, что хлеб — тело господне. Я не верю в самого господа, его нет, но в то, что хлеб — его тело, верю. Из всех благ, которые создает человек, — это первая и настоящая святыня. Не знаю, эта ли мысль заключена в церковной догме, я же ее читаю только так. И это — моя религия. Сестренка моя отреклась от всех канонов церкви, я же оставляю себе только этот: хлеб — тело господне. И когда в Оклахоме или в Лос-Анжелесе хлебные тузы сжигают пшеницу в паровозных топках, чтобы вздуть на нее цену, я кричу им отсюда: «Убийцы бога! Вы во второй раз творите свое черное искариотово дело! Остановитесь! Бог восстанет и воздаст вам двойной мерой!» Пока, правда, всевышний не привел в исполнение этой моей угрозы. Это сделают люди, малыш, они сильнее. Люди сильнее бога. Ты, кажется, перестал стучать клювом? Тебя испугала эта моя мысль? В таком случае, я продолжу... Что такое египетская пирамида, ты знаешь, конечно. Над фараоном, над человеком, у которого, как и у раба-каменщика, две руки и одно сердце, возносится исполинский рукотворный камень, гора вполнеба, способная заслонить солнце пустыни и менять течение ветра. Это гробница, рака, заупокойный храм, призванный увековечить глухую ночь, несвергаемое рабство, жестокость, а с ними и властелина, который тем только и отмечен, что угнетение себе подобных передвинул за черту смерти и теперь мертвый делает то, что делал живой. Каменную версту в небе, которая потом тысячелетиями будет удивлять народы и поколения величием и простотою форм, построил согбенный раб. Чуешь? Что же, я спрашиваю, сделает он, если распрямится и поднимет голову? Что возведет он, свободный и раскованный, когда вместо бесполезного и страшного в этой своей сути сооружения сможет строить то, что нужно ему, людям? Человек сильнее бога. Вот мы и подошли к тому главному, ради чего я и затеяла этот разговор. Сегодня утром мне пришла в голову счастливая мысль написать новую картину. И знаешь под каким названием?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: