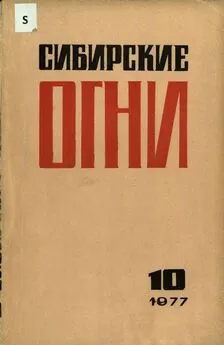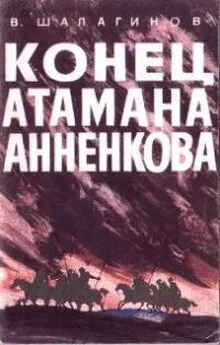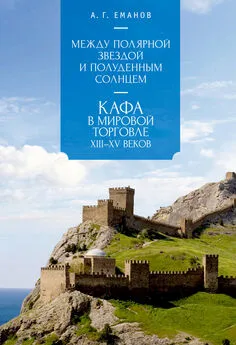Вениамин Шалагинов - Кафа
- Название:Кафа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство
- Год:1977
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Шалагинов - Кафа краткое содержание
Кафа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»
Путь всякий раз был один и тот же: за город.
Перейдя по камушкам прозрачную — на песочке — родниковую водичку, дышавшую в лицо прохладой и свежестью, Савва Андреич лез на крутяк, постоянно останавливался, звенел сапожком о гальку и улыбался.
Господи, какая благодать!
За крутяком природа клала ему в ноги зеленое царство с его восторгами жаворонка, с холстинами отавы, с медными свечьми сосен, с дятлом, который колотит клювом с каким-то странным глухим отзвуком, будто стучит на пишущей машинке. Когда дятел умолкал — переводил каретку — Савва Андреич слышал кузнечиков и снова улыбался, снимал шляпу и искал взглядом цепочку гусей.
И гуси объявлялись: по-видимому, их расписание почти в минутах совпадало с расписанием художника. Исполненные достоинства и спеси, они маршировали своей парадной хромотой от избушки лесника на крутяк, чтобы потом сойти к курейке, которую высылала сюда Большая река — она была тут же, за красным лесом, светлая, величественная, очень чистая и очень студеная. Проходя мимо, гуси наводили на художника свои лорнеты, а вожак делал шеей змею и сеял у его ног раздраженное шипенье. Савва Андреич дурашливо пятился, прятал трость за спину и смеялся, по-детски самозабвенно и радостно.
Он приходил сюда на свидание с натурой для холста, который напишет. Пока же этот холст был только живой природой, он поминутно менял свои краски и формы, зыбился под тягой ветра, звенел или щелкал трелью, наводил лорнеты и говорил: га, га, га.
Вон насыпь, вон темный ров, темная трава, темная глубынь...
Под насыпью, во рву некошеном
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
Эти слова он узнал давно. И, подобно дикарю, впервые увидевшему огонь, пережил тогда удивление, восторг и страх. Страх перед необъяснимостью явления. Картина была жива и удивительна, а загадка искусства — безмерна и недоступна. Впрочем, искусство ли это? Жаворонок, роняющий с неба свое серебро, грация белки, ее легкий взлет с невесомой ветви — разве это искусство? Слова, которые он прочел, это его слова. Не чьи-то, а его. И полотно, которое он напишет, будет полотном каждого, кто его увидит. Это моя картина, скажет каждый, такой я видел ее, красивую и молодую, в некошеном рву под насыпью.
Сначала пришла музыка.
И долгие годы холст оставался только музыкой: мягкие, редкие, низкие и непременно длинные удары на клавире. Не скрипка, не флейта, а именно клавир — рояль, клавесин, пианино: длинные удары, томление и смятенность угнетенной души. Голос для бога. Когда друзья спрашивали, как подвигается его работа, он беспомощно разводил руками или же садился к старинному инструменту, заметно бледнел и играл что-то клочковатое и всякий раз новое и старое. Красок он не видел. И, если брал их, они лгали.
Гуси легко всплывали на воде белыми корабликами. А когда выходили, вожак самодовольно ощипывался, тянул ногу, развертывал над нею веер крыла, и тогда воображение рисовало художнику будущий его холст и вот эту чинную гогочущую кавалькаду — выражение всеобщего равнодушия к мертвому телу, к страданиям и трагедии молодой женщины.
Но вот достанет ли у него таланта для гротеска и символа — в такой манере он никогда и ничего не писал?
В доме брата, плательщика службы пути Модеста Андреича, старый художник занимал меньшую половину. От брата его отделяла пятая стена, от племянницы Анфиски — так он звал младшую дочь сестры, жившей этим летом в Иркутске, — жаркие ситцевые павлины. Ширма.
С возвращением Саввы Андреича Анфиска, наряженная в воздушный пестро-клетчатый фартучек, висла у него на шее, визжала и от полноты чувств стучала задранными за спиной ножками, туфелька о туфельку.
— А ты не знаешь, а ты не знаешь... — говорила она свое неизменное, загадочное и лукавое.
— Что ж это я не знаю?
— А чем я тебя буду кормить.
— Может, картовочкой?
— Ну, какой-то! Сразу и догадался.
Анфиска притворно дулась, лезла в загнетку и добывала черную сковородку с картошкой, поджаренной на нестерпимо зеленом бобовом масле. После завтрака она меняла пестро-клетчатый фартук на белый и уходила в гимназию: шли приготовления к учебному году. Ей было шестнадцать, и она начинала последний класс.
Оставшись один, Савва Андреич любовно складывал салфетку вчетверо, поднимался и ходил, стараясь припомнить, куда ее кладет Анфиска, и, не припомнив, вздыхал и садился за бюро писать письма. Потом он снова брал трость и отправлялся в парикмахерскую братьев Каурдов. Над его чистыми сединами почти вхолостую стучали ножницы, фукал пульверизатор, и, посвежевший, напрысканный одеколоном «Одер де Фемина», он появлялся в рисовальном классе высшей начальной школы. Занятия с ребятишками лепкой и рисованием он считал своим последним — по времени — счастьем и еще должностью, которая кормит. И надо думать, лукавил в том и в другом. Счастье это не могло быть последним, он горел увлечением написать свое лучшее полотно, а должностью эти занятия можно было назвать только в шутку. После обеда он выносил шахматный столик на открытую террасу — она простиралась вдоль обеих половин дома и почему-то носила название заднего крыльца. Это были блаженные минуты. С томиком Тютчева, на скрипучем соломенном кресле, под черемухой. Разомлевшая от близкого соседства горячей кровли, черемуха пахла знакомо и щемяще. Молодость отступала еще дальше и оттого становилась дороже, милее и невозможней. Читая стихи, он прислушивался к басовой струне часов, отбивавшей в доме свою мету каждые четверть часа, и поглядывал через двор: он ждал друга, Евгения Михайловича Пинхасика, того весьма странного адвоката, который на процессе в пакгаузе сказал председателю «в высшей степени ничего» и тем вызвал снисходительное недоумение одних и осуждение других.
Пинхасик пергаментно смугл. Голая голова, голое лицо и очень живые черные глаза. Двинув шахматного пехотинца, он мгновенно преображался. Уступчивый, кроткий и, по первому впечатлению, слабохарактерный, он становился воплощением кары и беспощадности. Когда ход найден и взвешен, он отводит глаза от доски и заносит руку. Рука замерла в оцепенении. Она мыслит, высматривает, грозит: коршун в небе. Лицо Пинхасика насмешливо, презрительно, жестоко и коварно. Не глядя на доску, он безошибочно снимает фигуру противника и с тем же выражением коварства и презрительности ставит добытый трофей возле себя строго по достоинству, которое ему присвоено правилами игры: самый дорогой на правом фланге рядка, самый дешевый — на левом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: