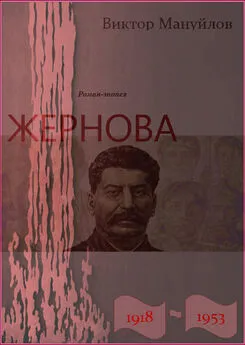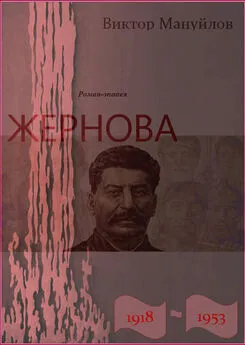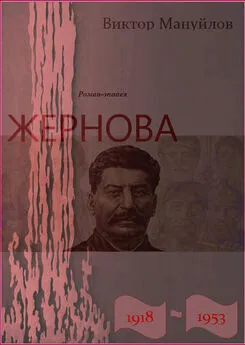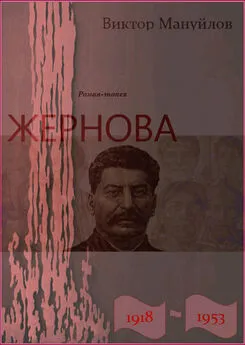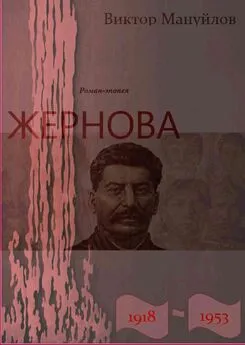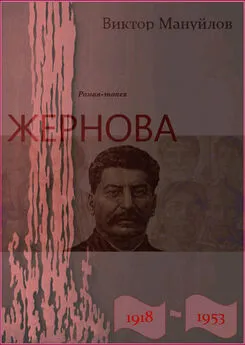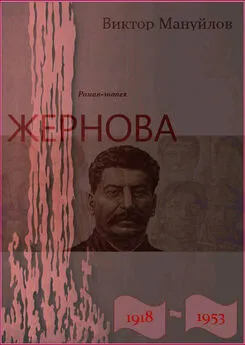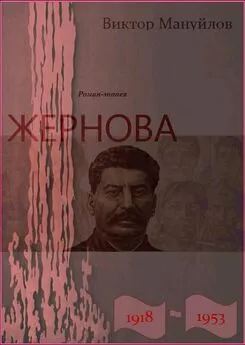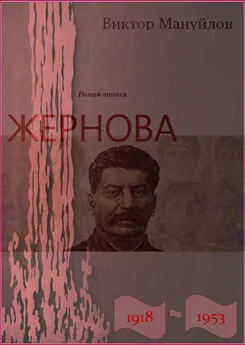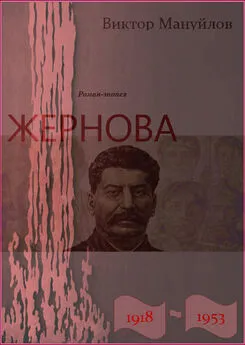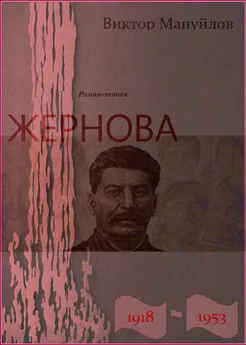Виктор Мануйлов - Жернова. 1918-1953. Вторжение
- Название:Жернова. 1918-1953. Вторжение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918-1953. Вторжение краткое содержание
Жернова. 1918-1953. Вторжение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Может, здесь остановят наконец немцев», — думал Алексей Петрович, но то, что он видел и пережил под Витебском, да и дымы пожарищ, поднимавшиеся на западе, охватывая полукольцом горизонт, особой уверенности в него не вселяли.
Но более всего он пытался разобраться в себе, в том, что изменилось в нем после панического бегства, но особенно — после выстрела в немецкого офицера. Он, никогда ни в кого не стрелявший, не убивший даже курицы, сегодня утром убил человека. Пусть немца, фашиста, пришедшего на его землю убивать, в том числе и его, писателя Задонова. И все-таки человека. И не обнаруживал в себе ни раскаяния, ни сожаления, ни удовлетворения — ровным счетом ничего: пустоту, провал, какие бывают после тяжелой болезни. Если верить тем, кто это испытал. А он испытал нечто другое — войну. Пусть лишь ее краешек, малую частичку, но все-таки войну. И не только как созерцатель, свидетель того, как воюют другие, но и как ее непосредственный участник. Может, война есть аналог тяжелой болезни? Что-то вроде эпидемии гриппа в самой тяжкой его форме? Но там… там — стихия. Еще не познанная, не управляемая. Как когда-то таковыми были оспа, чума. В этом все дело. А война? Познанная она или нет? Говорят: продолжение политики, только другими средствами. А политика — это что?.. А-а, черт! Лучше всего вообще об этом не думать. Как наверняка не думает об этом Кочевников, который считает, что он всего-навсего исполнил свой долг. И ты, худо-бедно, свой. А впереди еще — о-ё-ёй сколько.
Глава 18
Второй гаубичный дивизион 14-го артиллерийского полка занимал позиции на опушке леса в четырех километрах от передовой. Орудия устанавливали на определенном расстоянии друг от друга, маскировали ветками, рыли вокруг них щели на случай бомбежки, раскладывали в определенном порядке и на определенном удалении от орудий ящики со снарядами, тянули связь.
Одной из батарей этого дивизиона командовал старший сын Иосифа Виссарионовича Сталина, старший лейтенант Яков Иосифовича Джугашвили, симпатичный молодой человек тридцати трех лет от роду, с черными вразлет бровями, карими глазами, в которых, помимо тупого упрямства, угадывалась неуверенность в себе, проявляющаяся особенно наглядно при столкновении с другими людьми, даже ниже его по званию. Команды старший лейтенант Джугашвили отдавал совсем не командирским голосом, опасаясь, что всякое громкое слово тут же отнесут на счет особого его положения, как и тихое тоже. Стараясь ничем не выделяться среди других командиров полка, Яков всякую минуту чувствовал, что находится в центре внимания, особенно, если возникала необходимость и ему, наравне с другими, высказаться по тому или иному поводу. Тут уж все смотрели ему в рот, и даже сам командир гаубичного полка подполковник Сапегин, ожидая от него не иначе, как соломоновой мудрости. Все это держало Якова в напряжении, заставляло ни с кем особенно не сближаться, хотя отстраненность тоже засчитывалась ему как человеку особенному, а потому имеющему и особые, отличные от других, права. Одни командиры старались сблизиться с ним, ища в этом определенной для себя выгоды, другие, наоборот, держались в стороне.
Подобное положение, но как бы с обратным знаком, сложилось у Якова и в отцовской семье, в которую Яков попал в подростковом возрасте, до этого видевший отца лишь однажды, когда тот, находясь в отпуске на берегу Черного моря, приехал в Гори навестить свою мать и своего сына. Свидание было кратким, и Яков отца разглядел плохо. Тем более что отец тогда не имел ни той власти, ни той славы, которые получил впоследствии, и выглядел человеком вполне заурядным.
Но затем, по прошествии нескольких лет, отец уже представлялся Якову совсем другим человеком: могучим, в каждом слове которого сокрыта великая мудрость. Его звали не иначе как товарищем Сталиным, о нем писали в газетах, часто упоминали по радио, он жил в далекой Москве, за высокими Кремлевскими стенами. Москва и Кремль находились так далеко от маленького города Гори, где все знали друг друга, будто отец существовал в ином измерении и в иной же оболочке, не имеющей ничего общего с тем человеком, который когда-то приезжал в Гори, говорил обыкновенные слова обыкновенным голосом.
В семье отца все было непривычно для Якова, все резко отличалось от тех условий, в которых он жил в Грузии со своей бабушкой и другими родственниками после смерти матери. Там он ничем среди своих сверстников не выделялся, никто его мальчишеской свободы не стеснял. Впрочем, в домашней обстановке Яков видел отца крайне редко: тот всегда был занят, даже тогда, когда, казалось, ничем занят не был. Он походя мог задать какой-нибудь пустяковый вопрос, ответ на который чаще всего недослушивал, потреплет по голове и тут же скроется в своем кабинете. Яков сразу же почувствовал, что отец к нему не расположен, каждое слово своего сына воспринимает с плохо скрываемой иронией. А внимание мачехи, которая была всего на три года старше своего пасынка, скорее пугало, чем согревало душу.
И все, кому ни лень, постоянно указывали ему, что он не так ест, не так сидит, не то говорит, что учиться надо хорошо, иначе ничего в жизни не достигнешь, что надо иметь в жизни определенную цель, что всегда надо помнить, чей он сын, между тем Яков видел, что многие люди из окружения отца, — особенно те из ближайших родственников, кто ринулся в Москву из Грузии, как только Сталин занял там высокое положение, — умудрились пробиться на самый верх, не имея почти никакого образования и, как казалось Якову, никаких способностей, а лишь исключительно из-за своего родства со Сталиным.
Себя же Яков сравнивал с Мцыри, героем одноименной поэмы Лермонтова, всю свою жизнь стремившимся к свободе и умершем в неволе. И когда Яков закончил школу, он попытался эту свободу обрести, уехав в Ленинград к своим родственникам. Но те встретили его настороженно и постарались поскорее от него избавиться — явно из страха перед отцом. Никаких талантов у Якова не обнаруживалось, тяги к учебе — тоже, он рано женился, развелся, снова женился, как будто это и было главной целью его жизни. Но отец настаивал на том, чтобы Яков получил высшее образование — и тот, в конце концов, выбрал артиллерийскую академию, не прослужив до этого в армии ни единого дня, однако сразу же получив звание лейтенанта. В академии, как до этого в школе, Яков учился ни шатко ни валко, едва тянул на «поср», но ниже «хор» ему не выставляли, и он, сознавая, что все это из-за отца же, лишний раз утвердился в мысли, что так оно и должно быть, научился этим пользоваться, не испытывая при этом никаких неудобств. Не говоря уже об угрызениях совести. Впрочем, многие дети высоких партийных и всяких иных чиновников, которые учились рядом с ним еще в школе, вели себя подобным же образом, так что Яков Джугашвили не слишком-то выделялся на общем фоне, разве что служил мишенью для насмешек более языкастых сверстников за привычку ковыряться в носу на виду у всех, сморкаться на пол, чавкать во время еды, бесцеремонно пялиться на красивых девочек. Все это, вместе взятое, выработало в нем замкнутость и неуверенность в себе. Лишь одно оставалось у Якова и крепло год от года — непробиваемое упрямство, с каким он шел по жизни, не видя перед собой никакой определенной цели. Он даже пытался покончить с собой, когда отец воспротивился его первой женитьбе, но в решительный момент испугался, рука дрогнула, но палец на курок все-таки нажал, и пуля прошла настолько выше сердца, что едва задела плечо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: